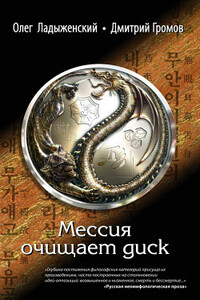«Он младший в роду, — прошептал Ифиту Алкид, предвосхищая очередной вопрос. — Поэтому сатириск, а не сатир…»
Ификл же подошел вплотную к несчастному Форонею и, приговаривая: «Не скули, не маленький», заставил сатириска отнять ладонь от пострадавшего уха.
Ухо было длинное, волосатое и остроконечное; вернее, оно еще совсем недавно было остроконечное — потому что вся верхняя его часть, как показалось Ифиту, была почти начисто оттяпана наконечником стрелы и болталась на тонкой полоске кожи.
Ификл огляделся, сорвал несколько листьев с какого-то невзрачного на вид растеньица и принялся их жевать. Потом аккуратно приложил на место болтавшийся кончик уха и залепил порез своей жвачкой.
— Мочку разомни, — подсказал брату Алкид. — Помнишь, Хирон показывал?
Ификл кивнул и стал сосредоточенно разминать мочку Форонеева уха, зажав ее между большим и указательным пальцами. Сатириск кряхтел, охал, но стоял смирно; и даже компания его буйных сородичей немного притихла и сочувственно наблюдала за действиями Ификла.
— Заживет, как на кентавре, — бросил наконец Ификл, отпуская ухо и шлепая Форонея по мохнатой ягодице. — Не будешь в следующий раз баловаться… а будешь — так Ифит тебе кое-что похуже уха отстрелит! Понял?
Сатиры заржали, а Фороней изобразил на лице подобие благодарственной улыбки и, бурча под нос: «С вас станется…» — поспешил ретироваться в толпу сородичей, где его сразу же начали утешать две полненькие бассариды.
Остальные же девицы, вертя в руках увитые плющом палки-тирсы и сладострастно покусывая их увенчанные еловой шишкой концы, откровенно разглядывали Ифита с ног до головы, и ойхаллиец с ужасом ощутил, как под этими взглядами его мужское достоинство становится все достойнее и достойнее.
Он и опомниться не успел, как очутился в самой толчее, в одной руке его оказалась долбленка с необычайно крепким и ароматным вином, в другой — уже очищенная от чешуи вяленая рыбина, удивленно выпучившая на Ифита белые от соли глаза; сатиры постарше подшучивали над молодыми сатирисками, бассариды опекали Ифита, нахваливая его умение стрелять, а также длину его рук, ног и стрел; какая-то пышногрудая толстуха уже размахивала отнятой у Форонея стрелой, успев намотать на ее древко плющ и насадить на жало толстую шишку, истекавшую смолой… в минуту просветления Ифит поискал взглядом близнецов — и обнаружил, что братья с воплями «Ой, дедушка Силен!» несутся к старому и совершенно седому сатиру, только что выбравшемуся из кустов, а тот ласково причмокивает вывернутыми губами, принимая близнецов в объятия и награждая каждого приветственными тумаками.
Следом за старым сатиром из кустов объявились еще двое: курчавый юноша в коротком хитоне из льняного полотна и еще кто-то… тоже вроде бы сатир, но покрупнее, поспокойнее и державшийся несколько особняком, сам по себе, не смешиваясь с вершащимся буйством, как масло не смешивается с водой, плавая на поверхности.
Странная пара — уродливая сила и прекрасная изнеженность, почти животная мужественность и почти женская томность; каприз, улыбающийся неестественно алым ртом, и коряво-мощная душа леса, прочно стоящая на двух остроносых копытах.
Дионис и Пан.
Словно чья-то подсказка прозвучала в мозгу Ифита, и он, не раз приносивший жертвы и тому и другому, впервые ощутил близость божества всерьез, когда можно протянуть руку, коснуться и сказать самому себе: «Да, это он!»
Впрочем, Ифит почти сразу же устыдился обуявшей его торжественности, обнаружив, что никто, кроме него, особого внимания на новоприбывших не обратил, как подгулявшая ватага гостей не слишком замечает временное исчезновение, а затем возвращение хозяина дома.
Ну, пришел себе и пришел… что с того?
Да и сам курчавый Дионис тут же затесался в толпу, ущипнул за ляжку ближайшую бассариду, подмигнул другой, отобрал у какого-то сатириска кусок сыра и мгновенно слопал добычу, проглотив ее чуть ли не целиком, — Ифит и моргнуть не успел, а Дионис уже стоял рядом.
— О Дионис дивнокудрый, — машинально произнес Ифит привычные слова моления, — прими мою жертву…
И плеснул из долбленки под ноги богу.