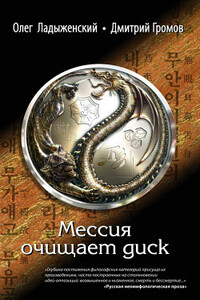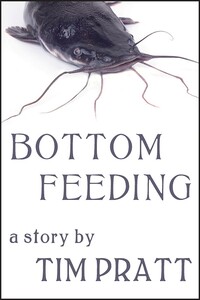— Д-да, бог! Ну и что?! Эх, жизнь наша — полная чаша… полная чаша — налетай, папаша!..
Хирон, до того спокойно лежавший в своей пещере, приподнялся и с интересом глянул в сторону входа.
Раздался треск кустов, нечленораздельное бормотание, какие-то странные звуки, похожие на шлепки, — и в пещеру ввалился Гермий. Он передвигался на четвереньках, мотая головой, из всклокоченной шевелюры Лукавого сыпались травинки и прелая хвоя, осоловевшие глаза съехались к переносице; драная хламида с капюшоном куда-то пропала, но ее с успехом мог заменить оставшийся на Гермии хитон — некогда щегольской, а теперь такой же драный и грязный, как и утерянная хламида.
Знаменитые сандалии Лукавого летели следом за босым хозяином, возмущенно трепеща крылышками.
Пещера мгновенно наполнилась ароматом винного погреба.
— Д-да, бог! Вот т-такой! Прошу любить и ж-жаловать! Или не любить и не ж-ж-ж… и не ж-ж-ж…
Гермий неожиданно перестал жужжать и икнул.
— Тихо ты! Не видишь — дети спят! Разбудишь, — Хирон попытался было утихомирить Лукавого, но тот пропустил слова кентавра мимо ушей. К счастью, близнецы, свернувшиеся калачиками на травяном ложе в дальнем углу пещеры, и не думали просыпаться от пьяных воплей Гермия.
— Детки! — запричитал Лукавый, целеустремленно переставляя руки и ноги в направлении братьев. — Родные мои! Простите меня, подлеца! Детство у меня… беспризорным рос, в пещере!.. Папа на Олимпе, мама на небе, дедушки — один в Тартаре, второй небо держит!.. Ни ласки, ни подарков в день рожденья! Воровал я, обманывал… вот и вырос такой б… ик!.. Такой б… ик! Такой б-богом! Простите меня, мальчики! Не хотел, правда, не хотел! И сейчас не хочу-у-у!..
В этот момент целый водопад ледяной родниковой воды обрушился на покаянную голову Лукавого. Это мудрый кентавр, видя, что словами тут не поможешь, опрокинул на Гермия огромную деревянную чашу с водой, до того мирно стоявшую у входа.
Гермий взвыл раненой Химерой, с фырканьем встряхнулся, отчего во все стороны полетели брызги; затем некоторое время постоял на четвереньках — и вдруг потребовал неожиданно бодрым голосом:
— Еще!
Второй чаши у Хирона под рукой не оказалось, зато нашлась здоровенная бадья (вполне достаточная, чтобы кентавр мог в ней искупаться), которую Хирон с некоторым усилием накренил и вылил часть ее содержимого на многострадального Гермия.
Лукавый еще раз встряхнулся, одобрительно хрюкнул и довольно-таки резво подполз к стене, где и принял более подобающее богу положение, усевшись на земляной пол и привалясь спиной к прохладным замшелым камням.
Почти сразу перед его глазами возникла мощная рука Хирона с долбленой миской, до краев наполненной какой-то зеленоватой жижей.
Миска двоилась и оттого казалась вдвойне непривлекательной.
— Опять вино?! — ужаснулся Гермий, с трудом подавляя тошноту. — Вы что тут все, сговорились?!
— Не вино, не бойся! Выпей, легче станет. По себе знаю — Силен у меня частый гость…
Последние слова явно убедили Лукавого. Непослушными пальцами вцепился он в миску, едва не расплескав, поднес к губам и стал торопливо глотать терпкий травяной настой, роняя капли на свой и без того уже безнадежно испорченный хитон. Горечь заполняла рот, в голове по-прежнему шумело, но окружающие предметы приобрели резкость, и даже удалось слегка изменить позу, не треснувшись при этом о стенку затылком.
— Хороший ты лекарь, Хирон, — криво улыбнулся Гермий. — Еще немного — и я буду совсем трезв. А зря… зря. Так хорошо быть пьяным, ничего не помнить, ни о чем не знать, ничем не мучиться… Забыться. И забыть… Наверное, я плохой бог, — добавил он непонятно к чему, но кентавр лишь согласно кивнул, ложась напротив и разглядывая Лукавого — такого несчастного, в насквозь промокшем хитоне, плотно облепившем тело.
— Да, ты плохой бог. И я плохой бог. Потому что когда в Семье начали всерьез выяснять отношения, я ушел в сторону. Наверное, это был не лучший выход, но для меня он был единственным.
Хирон некоторое время молчал, слегка подергивая хвостом.
— Ты сейчас тоже на распутье, Гермий. Хотя бы потому, что понял, какую опасность представляют эти дети. Для Семьи. Для нас. Для всех. Надежда для тех и для других — это очень, очень опасно.