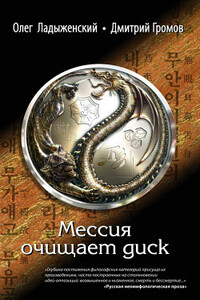Гермий помолчал и нехотя добавил.
— Ты тогда еще Амфитрионом был.
Иолай рывком сел на ложе.
— Помню, — глухо бросил он. — Только знаешь, Лукавый… давай без лишних воспоминаний. Я не бог, мне память — не тетка. Договорились?
— Договорились, — кивнул Гермий, не отводя спокойного взгляда от бешеных, налившихся кровью глаз Иолая. — Мне уйти или говорить дальше?
Трещины бежали по потолку, плетя свои бессмысленные кружева; «Хвала великому Гераклу!» — завопил во дворе тонкий голос, подозрительно похожий на голос Лихаса, и тут же утонул в хриплом многоголосом рокоте: «Хвала-а-а-а!..»
— Дальше, — Иолай тронул усталого бога за локоть, словно прося прощения за невольную вспышку. — Извини, Лукавый, по-моему, у нас обоих был трудный день…
— Не то слово. Итак: первый приезд Эврита в Фивы, состязание за право учить близнецов между Ифитом Эвритидом и предыдущим учителем… как его звали?
— Миртил.
— Да, Миртил. Потом — ничья; и этот самый Миртил наутро пропадает. Кстати, вы выяснили, что с ним случилось?
— Нет. С тех пор о нем — ни слуху ни духу. Поговаривали, что колесницу его — у нее на заднике приметная резьба была — видели не то в Арголиде, не то в Мессении…
— Колесницу — возможно. Но не ее хозяина.
— Ну и что?
— Ничего. Просто на следующий день после состязаний в предгорьях Киферона на глазах у одного пастуха учитель Миртил принес себя в жертву юному Алкиду. Я частично видел и жертвоприношение, и… приступ.
Гулкое эхо сказанного заполнило покои, превратив их на миг в подобие горного ущелья.
— И ты — молчал? Молчал до сих пор?! Почему ты не сказал мне этого тогда, раньше… когда я еще был Амфитрионом?!
— И что бы ты тогда понял? Да и не до разговоров мне было. Не веришь — у Хирона спроси. Опять же: ничья в состязаниях — это ведь не столько Миртил и Ифит, сколько я с Аполлоном. Братец мой сводный решил, что зазнался Эврит — Аполлон его еще «басилейчиком» через слово величал, — пора, мол, осадить. Ну и… осадили. В четыре руки.
— Хорошо, Гермий — зазнался, осадили, ничья… а в жертву-то себя зачем?!
— Не знаю. Предполагаю, что…
— Погоди, Лукавый. Дай-ка я соберусь с мыслями. Значит, ничья; допустим, Миртил догадывается о божественной помощи… а он горд — вернее, был горд — и решает… Нет, сам он так не решит. Значит, помогли. Подсказали. Кто? — тот, кому это выгодно. Возможно, Галинтиада, дочь Пройта, пожар ее праху! Хотя нет: явись старая Одержимая к Миртилу с такой идеей хоть до, хоть после состязаний — он бы ее в шею погнал! Неужели… Эврит-ойхаллиец?!
— Не знаю, лавагет. Но мыслю примерно так же. Если, конечно, такое условие и впрямь было поставлено покойному Миртилу; причем не после состязаний, а еще до них.
— Ну и спросите у него! Или Владыка Аид разучился язык теням приставлять?!
— Миртил не в Эребе, лавагет. Он — в Тартаре. Как и любая другая жертва Алкиду; особенно — добровольная.
— Но если в наших догадках есть хоть зерно правды, значит — Эврит… Одержимый! Причем из тех, кто был осведомлен о подлинной причине безумия Геракла!
— И в третий раз отвечу: не знаю, лавагет. Но хотел бы узнать.
* * *
«…Слава! — ревут за окном луженые глотки. — Слава возничему Геракла, Иолаю, сыну Ификла, сына Амфитриона, сына Алкея, сына Персея-а-а-а!..»
— Всех перечислили, — беззвучно шепчет Иолай, глядя в потолок, — одного забыли: самого Громовержца, Персеева отца… Дыхания не хватило, что ли?
Иолай в покоях один.
Бегут, змеятся трещины; причудливые линии треснувшей судьбы человеческой…
Примостившись на груде сосновых поленьев, остро пахнущих лесом, Иолай наблюдал за двумя кряжистыми рабами-абантами — коренными жителями Эвбеи, чьи спутанные волнистые кудри падали на лицо не из-за неряшливости, а согласно древней, забытой всеми, кроме самих абантов, традиции.
Абанты, сняв все, за исключением набедренных повязок, увлеченно жарили на вертеле баранью тушу, время от времени обмениваясь гортанными возгласами и сбрызгивая жаркое винным уксусом из глиняного кувшинчика. Бледные, но от того не менее жаркие языки огня жадно лизали истекавшую шипящим жиром баранину; мускулистые тела абантов лоснились от пота и, казалось, тоже сейчас начнут шкворчать и дымиться; дразнящий аромат растекался по двору — и Иолай, в общем-то не голодный, не выдержал.