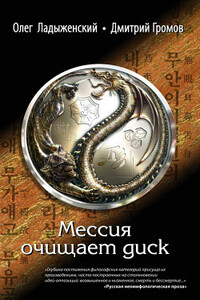Этот старый слепой рапсод,[38] олицетворявший собой, так сказать, некий Геликон[39] фиванского базара, тренькал здесь на расстроенной лире чуть ли не со дня основания города.
И песни у него всегда были одни и те же.
— Гермий-лукавец, посланец богов легконогий, сын Майи-Плеяды и грозного Дия-Кронида…
Если слепец и вспоминал других богов, то всегда в связи с вышеуказанным:
— Феб-Аполлон сребролукий, у коего Гермий-Килленец волов круторогих похитил…
— О Посейдон, Колебатель Земли, чей могучий трезубец однажды был унесен крылоногим Гермесом…
— Шлем-невидимка Владыки Аида, чье имя запретно для смертных, когда-то украден был — кем бы вы думали? Верно, ахейцы! Лукавым Гермесом!..
О том, что Гермий, к примеру, изобрел лиру, об этом рапсод вспоминал редко, предпочитая чеканным слогом описывать темные делишки возлюбленного божества, величая их чаще деяниями и реже — подвигами.
Впрочем, подавали ему неплохо — сказывалось влияние базара.
Не Аполлону же здесь хвалы возносить?!
Амфитрион мрачно глядел на рапсода-однолюба, слушал его пронзительный голос и никак не мог понять: почему достаточно подойти к слепцу и бросить в его миску для подаяний две вяленые рыбешки (обязательно вяленые, а не соленые или, допустим, копченые) — и назавтра, пройдя по Дромосу, впервые пройденному взбешенным Амфитрионом пять лет назад, он обязательно увидит полуразвалившийся дом, на пороге которого будет непременно сидеть и приветственно махать рукой горбоносый юноша в крылатых сандалиях?!
Этому безотказному способу связи Амфитриона, оставившего сосланных сыновей на Кифероне и вернувшегося в Фивы, научил лично Гермий — хотя сам Амфитрион до сих пор не мог понять, что общего между вяленой рыбой, слепым рапсодом и появлением Лукавого в определенном месте?
За прошедшие пять лет бывший лавагет пользовался наукой Гермия раз шесть-семь, когда ему хотелось повидать сыновей, а дела не давали покинуть город на месяц-другой, отправившись в поездку на Киферон.
Утром (с вечера уважив рапсода нужной рыбой) Амфитрион чуть ли не бегом — но все-таки не бегом, ощущая тяжесть прожитой половины века на еще крепких плечах — отправлялся на северную окраину, с третьей попытки находил нужное место между холмами, делал шаг-другой, чувствуя неприятный холодок внизу живота и слабое головокружение, ответно махал рукой встающему с порога Гермию, затем следовал короткий разговор…
И Амфитрион в очередной раз понимал, почему юношу-бога называли Проводником. Холодок внизу живота усиливался, приходилось зажмуриваться и крепче сжимать тонкое чужое запястье, уши непременно закладывало, а потом Гермий смеялся, Амфитрион судорожно сглатывал и открывал глаза, видя бегущих к нему сыновей.
Вечером Гермий возвращал его домой.
Но сейчас, сегодня… нет, не для очередного путешествия на Киферон хотел Амфитрион увидеть бога в крылатых сандалиях.
Совсем не для этого.
Третьего дня в Фивы прибежал гонец и, задыхаясь, рухнул у ворот города.
Не прошло и часа, как все фиванцы от мала до велика повторяли одно слово, в котором слились воедино многие слова речи человеческой, потому что слово это — рубеж, граница, отделяющая непоколебимое «сейчас» от возможного «никогда».
Война!
Война с Орхоменом.
Безумец Алкид подстерег минийских послов, идущих за ежегодной данью, и без видимой причины надругался над почтенными орхоменцами, отрубив им руки, носы и уши, после чего повесил отсеченные члены на шеи несчастным и погнал послов пинками обратно.
— Мальчик-то хоть не ранен? — это было все, что спросила узнавшая о случившемся Алкмена.
Что поделаешь, мать есть мать — тем более, что годовалый внук Иолай, худенький и болезненный малыш, был сейчас для Алкмены единственной реальностью.
Когда Амфитрион назавтра пополудни шел во дворец Креонта, молодежь криками приветствовала земного отца великого героя, освободившего Фивы от позорной дани, люди же постарше хранили угрюмое молчание или шептались о гневе богов и тяготах грядущей войны.
Во дворце же Амфитриона встретил не старый друг и покровитель Креонт, но басилей Креонт, государственный муж, мыслящий широко и предусмотрительно.