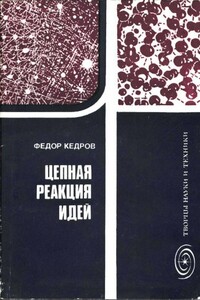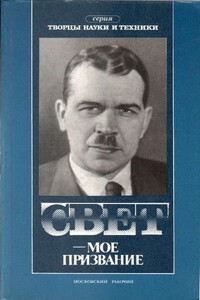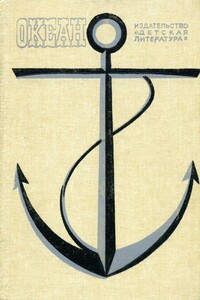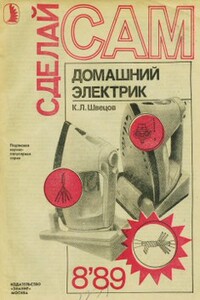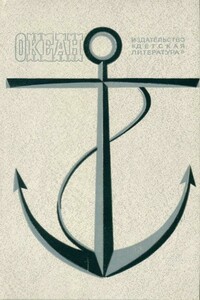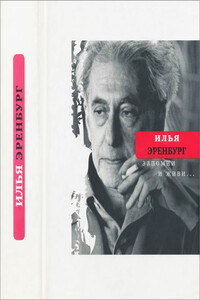«Невежество — тяжкое бремя», — говорил греческий мыслитель Фалес. «Знание — сила, сила — в знании», — утверждал спустя несколько веков Ф. Бэкон. В чем же именно выражается сила знания и как^ она проявляется в жизни, много лет позже раскрыл Маркс.
«Природа, — писал он, — не строит машин, паровозов, железных дорог… Все это продукты человеческой деятельности; природный материал, превращенный в органы власти человеческой воли над природой, или в органы исполнения этой воли в природе. Все это — созданные человеческой рукой органы человеческого мозга; овеществленная сила знания».
Содействие овеществлению этой силы, развитию промышленности Монж и считал важнейшей задачей ученых. Его заботы о подготовке инженеров, о развитии наук, искусств и ремесел, о разработке теории машин — яркое тому свидетельство.
Как отмечал Дюпен, ученик и сотрудник Монжа по Политехнической школе, «Монж с превосходством гения в строках элементарной программы наметил для описания машин порядок, который оказался простым, ясным и величественным. Это была программа курса, читаемого Ашеттом в Политехнической школе».
В замечательной книге «Теория механизмов и машин в историческом развитии ее идей» Алексей Николаевич Боголюбов, много лет изучавший творчество Монжа и других ученых, резюмирует: «Таким образом, от программы Ашетта 1808 г. ведет свою родословную не только теория механизмов, являющаяся непосредственным правопреемником курса построения машин, но и отпочковавшиеся от него позже курсы машиноведения, деталей машин и пр.»
Чтобы яснее представить вклад Монжа и Ашетта и последующее развитие их идей многими учеными за период, как говорится, от Монжа до наших дней, приведем текст этой программы.
«Программа элементарного курса машин, являющегося частью курса начертательной геометрии Политехнической школы.
О силах, применяемых для движения машин и о способах их определения. Силы, получаемые от животных, от воды, ветра и от сгораемых субстанций.
Об элементарных машинах, о круговом движении, о движении прямолинейном, о движении возвратном (туда и обратно); о формах машин, при помощи которых эти движения комбинируются по два; распределение этих машин на десять серий; объяснение таблицы, в которой все известные машины распределены на десять серий.
Объяснение основных машин, применяемых на строительстве.
Применение теории теней и раскраски к черчению машин».
После столь сжатого изложения теоретической части курса в программе четко определено, что именно должны учащиеся не только усвоить в виде новых знаний, но и сделать своими руками. Это значит, какими умениями и навыками они должны овладеть — требование, столь характерное для педагогической школы Монжа, суть которой можно выразить несколькими словами: цель всякого обучения — подготовка к практической деятельности. Такая постановка дела исключает неизбежное сползание в теоретизирование или уход в сторону от изучаемого предмета.
Какая же работа требовалась от учащихся Политехнической школы?
«Учащиеся должны начертить в туши, с раскраской:
Толкатели, приводимые кулачками.
Винт с треугольной и прямоугольной нарезками.
Цилиндрическое зубчатое или червячное зацепление.
Они должны пояснить эпюры следующих машин:
Коническое зацепление.
Всасывающий и нагнетающий насосы.
Нория прямая и наклонная.
Водоподъемная машина.
Конный привод.
Архимедов винт.
Крыло ветряной мельницы.
Огнедействующая машина.
Машина для забивки свай.
Землечерпалка».
Программа сопровождалась таблицей из десяти рядов, разделенных поперечными линиями. В образованных ими клетка» давались схематические изображения соответствующих элементарных машин.
Так выглядела наука о машинах в курсе Политехнической школы — в первом в мире курсе машин. Но Монж не был бы Монжем, если бы считал сделанное им и Ашеттом наивысшим достижением науки. Честолюбие ему было совсем не свойственно. И потому нетрудно понять, с какой энергией он принялся помогать человеку, которому довелось сказать новое слово в теории машин.