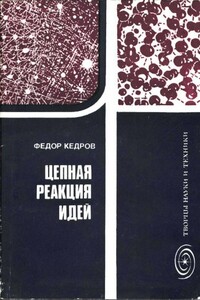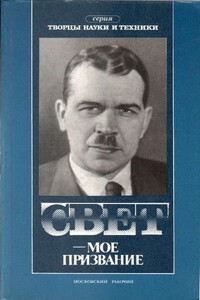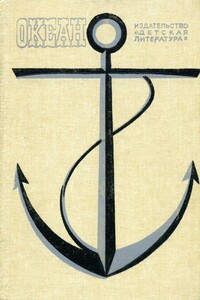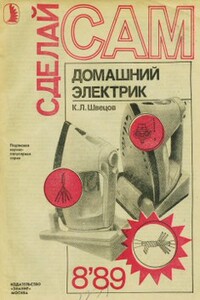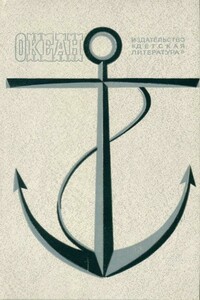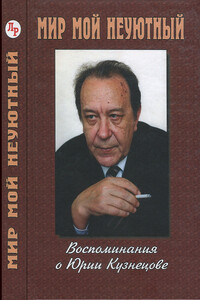Политехническая школа, «этот маленький шедевр», как называл ее Монж, дала мировой науке много великих имен» Трудно себе представить учебники современной высшей технической школы без имен Ампера и Гей-Люссака, Пуассона и Клапейрона, Кориолиса и Беккереля, окончивших эту школу в разные годы. Из ее стен вышли основатель термодинамики Сади Карно (сын «организатора побед» Лазара Карно), творцы физической оптики Малюс, Френель и Араго, знаменитые инженеры и геометры Понселе, Шаль, Пуансо, Бриссон, Навье. Из стен парижского Политехникума вышли и творец «позитивной философии» Огюст Конт и нынешний президент Франции В. Жискар д’Эстен.
Насколько авторитетна и популярна была эта школа с первых же месяцев своего существования, можно судить хотя бы по тому, что в ее амфитеатрах нередко можно было видеть знаменитых генералов Дезе, Кафаррели, Бонапарта… Монж достиг своей цели: он создал учебное заведение, которому, как тогда писали, завидовала вся Европа, и которого, как писали позже, боялись императоры и короли.
Когда Политехническая школа начала уже функционировать, комиссия, назначенная Конвентом, занималась организацией другой школы. Она называлась Нормальной школой и предназначалась для подготовки не инженеров, а преподавателей. Среди ее профессоров была все та же знаменитая тройка: Лагранж, Лаплас, Монж. И хотя школа просуществовала недолго, Монж в течение четырех месяцев прочитал там тринадцать лекций. Они были записаны стенографами, прикрепленными к школе, и опубликованы в журнале этой школы.
Знаменитый трактат «Начертательная геометрия» Монжа и представляет собой запись его лекций, отредактированную и дополненную Бриссоном, поскольку Монж совсем не интересовался опубликованием своих работ. Так спустя три десятилетия вышел в свет капитальный труд гениального геометра.
Судя по дошедшим до нас скудным сведениям, древнегреческий математик пифагорейской школы Архит очень гордился успехами в счете, которых достигла эта знаменитая школа. «Открытие счета, — писал он, — способствовало прекращению распри и увеличению согласия между людьми. Ибо после этого открытия нет больше обсчитывания и господствует равенство».
Наивный мудрец! Обсчитывание, обвешивание, обмеривание сохранились и до наших дней, когда кругом — датчики, автоматы и бесстрастные ЭВМ. С тех пор как существуют собственность, деньги, материальное неравенство, всегда были корыстолюбие и обман. Очень большого расцвета обман на неправильной мере и неправильном весе получил, по-видимому, в феодальной Франции в канун революции. Только для измерения земельных площадей применялось более сорока различных мер с почти одинаковыми названиями.
Этой измерительной оргии и, разумеется, диким злоупотреблениям, если не назвать их прямым грабежом, способствовало закрепленное за феодалами «право эталонажа», то есть право назначать меру и вес, какие им заблагорассудится. Некоторые торговцы считали своим неотъемлемым правом получать доход от различия в применяемых в стране мерах.
Словом, путаница была невообразимая. Потребность в реформе давно назрела, но разрубить этот сложный клубок длительное время никому не удавалось. Учредительное собрание в 1790 году постановило даже «умолять короля обратиться с письмом к английскому королю» о совместном проведении реформы. Но по плечу ли королю такая решительная мера? Он и сам-то чувствовал себя в то время не очень твердо…
Мысль об установлении во Франции единства мер и весов рождена не революцией, она так же стара, как и сама монархия. Однако достигнута эта цель была лишь после свержения монархии.
«Изо всех хороших предприятий, которые у нас останутся в памяти о французской революции, это то, за которое мы всего менее заплатили», — писал позже астроном Деламбр о метрической системе мер, в разработку которой он сделал немалый вклад. «Несвязная система наших мер, — подчеркивал он, — помимо своих реальных неудобств имела первоначальный недостаток, который и ускорил ее отмену: путаница, в ней царившая, в большей своей части была делом той феодальной системы, которую никто более не смел защищать и которую стремились искоренить до мельчайших следов».