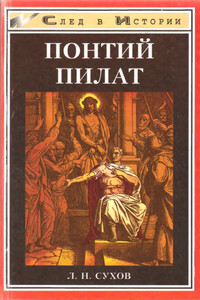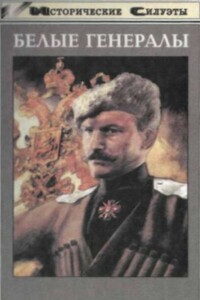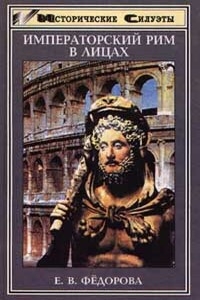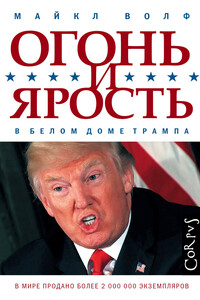Эти процессы протекали в весьма сложной и противоречивой обстановке. Общественную атмосферу России конца XIX века определило, в основном, противостояние двух тенденций.
Первая выражала стремление перевести страну на рельсы буржуазного развития. Этому способствовали реформы царя Александра II (отмена крепостного права, судебная, военная, земская и другие реформы). При всей своей половинчатости (сохранение привилегий старого слоя, идеологии самодержавия, политических структур, препятствующих прогрессу и продвижению к власти буржуазии), они тем не менее встряхнули и пробудили Россию от вековой спячки. Реформы изменили былую старину, хотя и старина продолжала вязать по рукам и йогам сами реформы. На политическую арену страны выдвинулись идеологи либерализма и революционоаризма. При всей разнице между ними они выступали против монархии, за быструю «западнизацию» России, зачастую пренебрегая тем, что она не просто европейская, по евроазиатская страна.
Такой поворот событий привел в действие консервативные, реакционные силы. Предопределив вторую тенденцию, эти силы выступили даже против реформ сверху, несмотря на то, что они исходили от самого царя. И противники новшеств одержали верх. Александр III, заняв трон в 1881 году, а за ним и его наследник, ставший царем Николаем II в 1894 году, выражая интересы сил, отживших свой век, попытались повернуть колесо истории вспять. В своем дневнике последний, убежденный в своей правоте, изрекал: конституционализму «в России мешает сама Россия, ибо с первым днем конституции начнется конец единодержавия. Оно требует самодержавия, а колец самодержавия есть конец России».
В начале 80-х годов на смену реформам Александра II пришли контрреформы Александра III, продолженные затем Николаем II. И хотя полный возврат к дореформенным порядкам был невозможен, тем не менее, предпринятые меры создали препоны на пути набиравших темпы капиталистических преобразований. Внезапное торможение естественной эволюции бросило под колеса с трудом раскочегаренного паровоза, продолжавшего по инерции двигаться с прежней скоростью, все хозяйство и тем самым повлекло за собой резкое обострение всего комплекса социально-экономических и идейно-политических противоречий. В этом и заключался глубинный источник катаклизмов, сотрясавших Россию на протяжении последующих лет.
Свобода, обретенная бывшими крепостными без собственности, превращалась в гремучую смесь, готовую взорваться от малейшего толчка. Города, где этой свободы хватало, становились рассадниками радикализма. Революционаризм охватывал все слои общества, проникал в армию, будоражил всю страну. Пролетарии точили ножи против капиталистов, крестьянство — против помещиков, буржуазия — против самодержавия, а последнее стремилось держать порох сухим против всех. В стране сгущались грозовые тучи, на горизонте все чаще сверкали молнии, погромыхивал гром. Прозорливые пребывали в предчувствии надвигавшейся беды. Либералы требовали ускорения политической перестройки, не исключая и насильственных форм. Еще большую решимость проявляли революционные элементы — народники, социал-демократы, русские марксисты.
В «Открытом письме» Николаю II, недавно вступившему на престол, П. Б. Струве, тогда еще исповедовавший марксизм, писал: «Русская общественная мысль напряженно и мучительно работает над разрешением коренных вопросов народного быта, еще не сложившегося в определенные формы со времени великой освободительной эпохи…, вы напомнили обществу о своем всесилии, что создает впечатление полного отчуждения царя от народа». При таком положении вещей, считал Струве, самодержавие обречено, ибо само роет себе могилу и в недалеком будущем падет под напором живых общественных сил, а позиция царя — главы режима — лишь «обостряет решимость бороться с ненавистным строем всякими средствами». Автор предрекал: «Вы первый начали борьбу, и борьба не заставит себя ждать».
Революционный радикализм прорывался в Россию из всех щелей. В воздухе носились самые разноречивые идеи — от гуманистических до экстремистско-тоталитарных. Ряд деятелей выдвигал умеренные цели и средства их достижения, декларировал приверженность идеалам демократии, неприятие насилия как орудия социального переустройства, уважение к человеческой личности. К ним относились А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. А. Добролюбов, с определенными оговорками — Н. Г. Чернышевский. Другие — С. Г. Нечаев, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев — проповедовали бланкистскую концепцию революции: кровавый захват власти, установление диктатуры меньшинства, массовый террор ко всем политическим оппонентам, насильственное насаждение социализма «сверху».