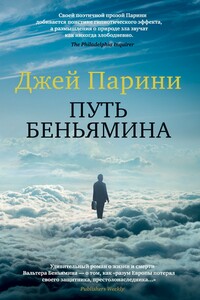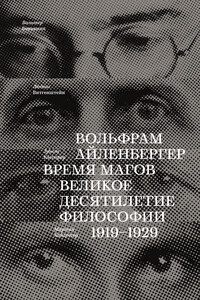Библиотека Штайгера в Берне и Чугге не могла заменить больших библиотек немецких университетов. В нашем распоряжении каталог: все же она была достаточно богата, чтобы послужить с пользой Гегелю. Во всем его творчестве есть отсылки к произведениям, которые он читал или просматривал именно там.
Так, Гегель смог проштудировать в Швейцарии «Церковную историю» Мосгейма (1776), откуда он сделал значительные выписки; «Историю обеих Индий» Рейналя; «Историю Англии» Юма; «Исторические произведения» Шиллера; труды Монтескье и Гиббона, ставшие для него источником вдохновения (R 60).
Каким бы одиноким он ни был, как бы ни переживал одиночество, дружеских связей в Швейцарии он был не вовсе лишен. Общественная жизнь бурлила, особенно в княжестве Нойшатель, личной собственности прусского короля, а также в стране Во. Знаменитостей, местных и приезжих было полно, а Гегель всегда и везде умел подобраться к интересным персонажам. Но об этих швейцарских знакомствах у нас только отрывочные сведения.
Известно из его доверительной записки Шеллингу, что он встречается в Берне в 1794 г. с К. Э. Ольснером (К. Е. Oelsner)[95] — «Совершенно случайно» (С>1 17) — пишет Гегель! Это мог быть только эвфемизм. Скромный немецкий учитель в знатном семействе Штайгеров не мог встретиться «совершенно случайно» и в обстановке, позволившей им побеседовать, с силезцем, известным своей преданностью Революции, вынужденным обстоятельствами покинуть Францию и являвшимся объектом внимательной слежки со стороны бернской полиции, как и все посещавшие его друзья или сообщники. Гегелевское «случайно» дает понять или сделать вывод о том, что эта встреча никак не была случайной. Впрочем, в то же самое время Гегель сообщает своему корреспонденту Шеллингу, что уже читал «Минерву» Аршенхольца со знаменитыми «Письмами» Ольснера.
Тем более очевидно, что нет никакой случайности в его визитах к швабскому художнику Зонненшайну. У последнего, рассказывает нам Розенкранц, были «улыбчивые жена и дочка, у них дома играли на пианино, пели, в частности, “Песни” Шиллера». Упоминание одной из этих «Lieder» (R 43) вносит больше ясности: это знаменитая «Ода к радости», которую друзья Гегеля пели после его отъезда в Берн «в память» о нем, та самая «Lied», которую торжественно и в полный голос распевали Гёльдерлин, Магенау, Нойффер с друзьями[96], повернувшись к Неккару. Масонские мотивы этой поэмы и ее революционный смысл были очень внятны современникам.
Жизнь Зонненшайна до той поры была сплошной чередой конфликтов с герцогом Вюртембергским: мятеж, полицейские и юридические преследования, убежище в Швейцарии, требование экстрадиции со стороны Вюртемберга, отказ швейцарских властей и т. д.
Розенкранц считает нужным добавить, что некий Флейшманн «разделял эти невинные (harmlos) семейные забавы». Были ли в самом деле столь невинными эти посещения?
В июле 1796 г. Гегель с товарищами, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они были саксонцами, предпринимает путешествие в бернский Оберланд. По этому случаю он, следуя моде, пишет «Путевой дневник». Он записывает в нем свои непосредственные впечатления, которые часто любопытным образом отражают его философскую позицию и личные вкусы. Никакого намека на «романтическое» любование дикой природой. Напротив, взгляд Гегеля оказывается чисто «утилитаристским»: его интересует, как выделывают сыры и как их продают, стараясь надуть покупателя. Совершенное презрение к вызывающим восхищение у его современников величественным горным вершинам. Позже он скажет, что «вечные горы не величественнее цветка быстро осыпающейся розы с ее короткой жизнью»[97]. Пока же он замечает недвижность огромных горных масс. Нет движения, нет жизни: Es ist so! (Вот так), больше о них ничего не скажешь (D 224).
Зато он очарован зрелищем водопада в Рейхенбахе, который уже вдохновил Гёте на стихи: «Песнь духов над водами». К мыслям, навеянным шиллеровскими «Письмами об эстетическом воспитании», он добавляет «диалектическую» метафорику. Этот роскошный водяной каскад являет собой образ «вечно того же», которое вечно иное (R 44). Несомненно, он припоминает изречение Гераклита, переводя его на язык современности. Сколько силы в этом могучем движении вод, сколько жизни! Гегелю претит все неподвижное, застывшее, мертвое. Лучше бы оно двигалось.