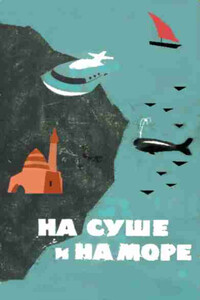Было время, когда чуть ли не повсюду в Швабии и Германии высаживали деревья свободы, и участники этих церемоний редко были так откровенно «революционно» настроены, как Гегель и его друзья. За неимением точных сведений удивляться пришлось бы не тому, что они посадили древо свободы, а тому, что они воздержались от этого жеста, в общем, мало говорящего об их взглядах, о которых лучше известно из других источников.
Сам по себе факт большого значения не имеет. Ожесточение, с которым его опровергают, свидетельствует, скорее, о неправоте оспаривающих.
Значим в конечном счете не столько сам факт, впрочем, трудно опровержимый, сколько рассказ о нем — правдивый или ложный — Клюпфеля. В 1849 г. на месте преступления можно было рассказывать — не рискуя быть опровергнутым свидетелями эпизода или их прямыми потомками, в числе которых и сам рассказчик, а также тогдашней администрацией Штифта, — о том, что однажды Гегель участвовал в высадке древа свободы. Вот то, о чем все знают, и что безусловно допускают: да, он был на это способен!
Вот удобный повод повторить в связи с этим поступком Гегеля, но с большим правом, сказанное им же — в согласии с глубинной интуицией идеализма — о чудесах Иисуса: «Вместо того, чтобы объяснять принятие христианства с помощью чудес, поинтересуйтесь: каков должен был быть век для того, чтобы чудеса, и именно те, о которых нам рассказывают, оказались возможными»[76]. Ибо чудо, как и всякое другое явление, не может заключаться ни в чем ином, как в сложившемся о нем представлении! Каково же было представление о Гегеле, если его можно было вообразить пляшущим вокруг древа свободы?
Другой факт. Однажды в Штифте узнают о казни Людовика XVI. Штифтлеры, по крайней мере кое‑кто из них, празднуют событие. Чтобы отчитать студиозусов специально приезжает герцог. Разобраться в этом происшествии можно, только поместив его в социокультурный контекст.
Дело в том, что большинство немецких интеллектуалов с самого начала были на стороне Французской революции. Когда она началась, она вызвала волну энтузиазма, захватившую Канта и Гегеля, при этом никто, или почти никто, не намеревался на практике подражать отважным французам. Революционные трудности возрастали, как следствие насилие тоже, и очарование мало — помалу рассеивалось. Большинство немцев, которые поначалу воодушевились и поддержали Революцию, разуверившись, отвернулись от нее, а некоторые выказали откровенную враждебность. Небывало жестоким событием, подытожившим разрыв, стала казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. Символический смысл обезглавливания, чье эмоциональное воздействие со временем стерлось, тогда не ускользнул ни от кого.
Все мелкие тираны Германии были страшно напуганы и возмущены, как и — в меньшей степени — их подданные, испытывавшие перед начальством (Obrigkeit) вообще атавистическое чувство преданности и покорности. Они привыкли к самому несправедливому и самому жестокому (колесо, дыба, костер, топор) обращению с подданными, о котором Гегель часто упоминает, чтобы его заклеймить, но не с королями! В дальнейшем, лет на сто вперед сделалось хорошим тоном прилюдно громко осуждать цареубийц (Königsmörder), выказывая законным властям знаки уважения и преданности. Без этого вход в приличное общество был закрыт.
За одним, по меньшей мере, исключением: Штифт. Стипендиаты, в совокупности, не только не осудили убийство Людовика XVI, но отпраздновали его, и можно предположить, что, поступая так, они имели в виду герцога Вюртембергского: если бы добрый герцог был убит, неважно кем и как, штифтлеры и не подумали бы плакать. Они осмелились отпраздновать казнь французской монархии в лице казненного монарха.
Как отмечают биографы — позаботимся о сохранности их выражений — «злоупотребления» в поведении штифтлеров «вынудили герцога лично сделать им внушение».
Не для того же давались деньги религиозному заведению, чтобы плодить революционеров в Швабии! Но в эти страшные годы даже пасторы меняли окраску. Во Франции они повально присоединялись к Революции!
Одна из уловок тиранов, чувствующих угрозу своей власти, заключается в том, чтобы самим открыто и шумно осудить тиранию в принципе, отмежевавшись некоторым образом от нее, и тем самым отвести от себя обвинение. Во времена Гегеля не было нужды выяснять, кто осуждает самовластие, а кто нет: всяк на публике его клеймил, как мог. Нужно было назвать имя тирана.