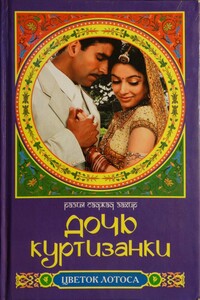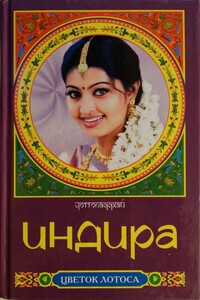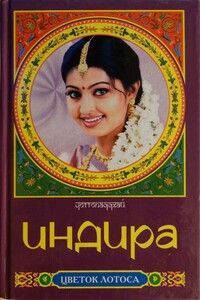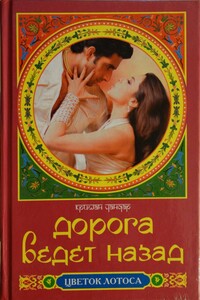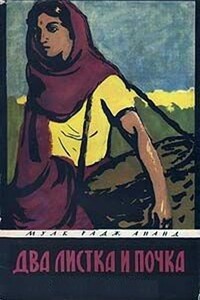На следующее утро Рафик, воспользовавшись первым удобным предлогом, подошел к постели Панчи, выставленной во двор.
— Ну, братец, — спросил он, — как твои дела?
— Неважны мои дела, — Панчи махнул рукой.
— Ничего, не падай духом и будь терпелив, — сказал Рафик.
— Дядюшка Рафик, — помолчав, сказал Панчи, — вы знаете, как я страдал. Я хотел, чтобы она вернулась, — какой же дом без женщины? Я даже пошел за ней в Большой Пиплан, и меня там избили. Но я никогда не думал, что дочь Лакшми будет похожа на Лакшми…
— Что ты болтаешь! — нетерпеливо перебил его Рафик. — Ты дурак, что не доверяешь ей. Она богиня, твоя Гаури! И горе тебе, если ты не будешь почитать ее!
— Не думай, что я вроде тебя соглашусь ходить под каблуком у жены! — сказал Панчи. — Ты ведь знаешь, что мудрость женщин в их лодыжках и доверять им нельзя. Стоит им увидеть нарядную тряпку, и никто уже не может поручиться за их целомудрие.
— Замолчи! — рассердился Рафик. — Тебе ли говорить об этом, как будто ты сам не заглядывался на женщин в нашей деревне!.. Мы, магометане, надели на женщин чадру и позволили мужчине иметь четырех жен. Ну, а вы, «дважды рожденные индусы», только и делаете, что раздеваете женщин взглядом, словно они ни на что больше не годны. Позор!
— Послушай, дядюшка Рафик… — начал было Панчи.
— Не говори глупостей, сын мой, — прервал его горшечник. — Сердца мужчин в нашей деревне закрыты чадрой, а не лица женщин. И наши муллы, и ваши брахманы — одинаковые лицемеры. Они предписывают лживые законы, а старейшины в каждом братстве поддерживают их. Сколько бы жен они себе ни брали, они утверждают, что женщина должна принадлежать только одному мужчине. Неужели ты думаешь, что Гаури, которой вдалбливали это с детства, могла сойтись с каким-нибудь другим мужчиной?! Надо быть сумасшедшим, чтобы этому поверить!
Красноречие Рафика заставило Панчи замолчать. Он всегда чувствовал, что горшечник не похож на других жителей деревни, но никогда не предполагал, чтобы у него могли быть такие взгляды. Широта натуры старика заставила его устыдиться собственной ограниченности. И все же где-то в глубине омраченного сознания его положение представлялось ему зловещим и несправедливым. Когда он поднял голову, в глазах его была бездна отчаяния. После того как он прошлой ночью ударил Гаури, а потом снова приласкал ее, он несколько успокоился. Но под утро ему вдруг приснился Махендра, и он проснулся весь в поту. Сердце его билось как барабан, возвещающий бедствие. Теперь, после слов Рафика, он испытал некоторое облегчение, но в то же время чувствовал себя так, будто его одного из всех людей на свете заставили пройти через муки сомнения.
— Неужели ты можешь с холодным сердцем глядеть на слезы Гаури? — спросил Рафик.
— Меня пугает осуждение старших, дядя Рафик, — ответил Панчи.
— Но ведь вопрос в том, справедливо или нет то, что они говорят.
Панчи снова умолк, но все же почувствовал себя немного увереннее.
Стены амбара озарились светом — солнце уже взошло. Рафик поднялся с постели Панчи.
— Нельзя потушить огонь маслом, сынок, — сказал он перед тем, как уйти, — и, может, мои слова пройдут для тебя даром. Но тогда уж не говори мне, что я не предупреждал тебя.
— Если б ты подмешал хоть немного сахару к этому маслу, мне было бы легче его проглотить, — сказал Панчи.
Когда Гаури кончила обтирать его и выжала полотенце, ему захотелось, чтобы она осталась с ним. Она уже хотела было идти, как он схватил ее за руку и привлек к себе.
— Не надо! — сказала она, стыдясь его заигрывания при дневном свете и опасаясь, что кто-нибудь может прийти. И действительно, в этот момент кто-то вошел во двор.
За мягким шумом шагов послышался знакомый голос Кесаро:
— Панчи, сынок, где ты?
Гаури, словно изваяние, застыла на месте и затаила дыхание. Рука ее все еще была в руке Панчи.
Панчи сел на кровати и крикнул:
— Пошла вон, тетушка, уходи и не показывай мне больше своего черного лица!
— Ай-ай-ай, сынок. Что ты говоришь?
— Ступай к дьяволу! Не смей больше разваливать мою семью!
— Да ты что, сынок!
Панчи выскочил из постели.
— Я вышвырну тебя вон, если ты не уйдешь по своей воле! — пронзительно закричал он.