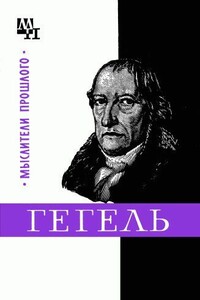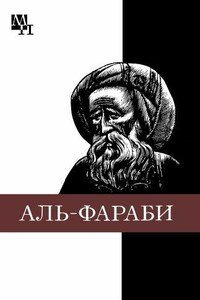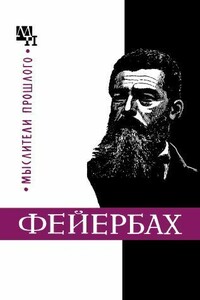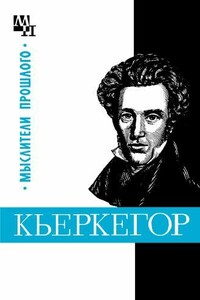Но эпикурейская этика вовсе не проповедь аскетизма: «Страдальческая жизнь — это величайшее зло» (5, т. 1, стр. 313), и ее следует всячески избегать. Эта этика вовсе не требует пренебрежения к материальным, телесным потребностям. Ей чужда проповедь поста, безбрачия, лишений, мученичества: «Философия счастья — это не что иное, как философия здоровья» (5, т. 1, стр. 317), здоровья «человека в целом», как духовного, так и телесного. Ее девиз — здоровый дух в здоровом теле.
Эпикурейцы не только не киренаики, но и не киники. Их позиция — «золотая середина». Не всякий может (и должен) быть Диогеном. Но всякий должен обладать чувством меры. Он должен избегать жадности и алчности. Это требует соблюдения умеренности, обеспечивающей покой тела и духа. Покой — таков ключ к «статическому» роду удовольствия, влекущему за собой высшее благо. Причем душевный покой не только исключает, но предполагает телесное благополучие (indolentia corporis).
Эпикурейский идеал покоя и безмятежности, провозглашенный Гассенди в то беспокойное, тревожное время, не был призывом к беспечности, бездеятельности, равнодушию, инерции. Покой в его понимании — «это не просто оцепенение», косность. Он не хочет, «чтобы жизнь мудреца была похожа на бурный, стремительный поток, но из этого не следует, что мы желали бы, чтобы она была похожа на стоячую, мертвую воду. Мы скорее желаем, чтобы эта жизнь была похожа на воды реки, ровно и плавно текущие» (5, т. 1, стр. 316). Душа находится в состоянии покоя не только тогда, когда она пассивна, бездействует, но «еще в большей степени, когда она совершает великие и славные дела, не волнуясь и не теряя внутренней уравновешенности» (4, т. II, стр. 718), когда человек владеет собой.
До сих пор речь шла о счастье, удовольствии, страдании, но ни слова не было сказано о морали, о нравственности — о собственном предмете этики. Но в этом как раз и состоит особенность, своеобразие эвдемонистической этики в отличие от ригористической: в том, что нравственность и блаженство в ней нераздельно связаны, что без морали счастье несбыточно, недосягаемо, что долг не противостоит склонности, влечению, не ограничивает, а стимулирует его. Добродетель — залог счастья. Вот первая заповедь эпикурейской морали: «Я считаю, что добродетели настолько тесно связаны с приятной жизнью, что последняя от них совершенно неотделима», и «не существует ничего, что могло бы нам дать столько счастья, сколько добродетель» (5, т. 1, стр. 324, 325). Она, и только она, способна вознести на вершину душевного покоя, без которого недоступно высшее благо.
Добродетель, как ее понимает Гассенди, — синкретическое понятие, и, «хотя все добродетели связаны между собой, из этого не следует, что они равнозначны» (5, т. 2, стр. 324). Основная добродетель — благоразумие. Все остальные добродетели связаны с нею, «как члены тела с головой или как ручейки с тем источником, из которого они вытекают» (там же). В русском переводе этого термина «prudentia» само словосочетание «благо» и «разум» как нельзя лучше раскрывает самую сердцевину этики Гассенди: «…добродетель — это не что иное, как некое совершенное размещение духа, созданное разумом или благоразумием в качестве оплота против болезней духа, или пороков» (5, т. 1, стр. 319). «Благо-разумие» — как бы этический синтез (аналогичный логическому синтезу сенсуализма и рационализма) влечения к удовольствию и рассудительному суждению о нем. Ведь иной раз, по мнению Гассенди, страдание разумно предпочесть удовольствию, если последнее влечет за собой большее страдание, от которого избавляет меньшее.
Благоразумие, как ведущая добродетель, ставит перед этикой вопрос о соотношении воли и разума. Как бы всеобща и непреодолима ни была воля к счастью, благоразумие требует контроля разума над волей: разумного выбора между влечениями, стремлениями, побуждениями. Благоразумие требует, чтобы разум был критерием блага. Целью наших стремлений должно быть то, что разум признал благом; то же, что он признал злом, мы должны отвергать и избегать. Разум первичен, воля вторична. Он освещает путь воле. Воля, стремящаяся к добру, следует за разумом «подобно тому, как тень следует за телом» (4, т. II, стр. 823). Разум взвешивает различные наши побуждения. Он подобен весам, склоняющим волю на сторону более веских мотивов (4, т. II, стр. 824).