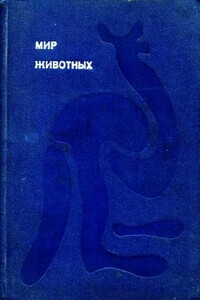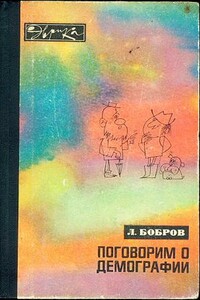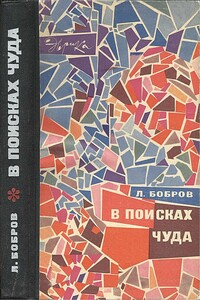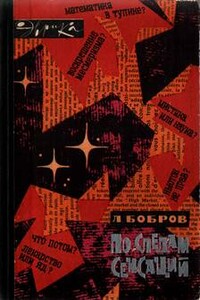Когда народы бывшей Российской империи свергли в 1917 году буржуазно-помещичий режим, им досталось ненамного лучшее, а в чем-то и худшее культурное наследие, чем то, которое оставил колониализм нынешнему «третьему миру». Скажем, в молодых африканских государствах на все их население (сотни миллионов человек) еще недавно приходилось всего 12 тысяч научных работников (в 100 раз меньше, чем в СССР 1975 года). В Гане, например, 60 на миллион жителей, в Кении — 65, в Сенегале — 77. А в России 1913 года — 72–73. Можно ли судить по этим цифрам, какая доля населения пригодна к исследовательской деятельности? Прошло 60 лет, и соотношение изменилось: в СССР 1975 года на каждый миллион жителей приходилось уже 4700 научных работников — в 64 с лишним раза больше.
Чем объяснить такой скачок? Быть может, повезло — новые поколения оказались одареннее прежних? Ничего подобного, страна и раньше не была обделена талантами. Но легко ли было проявить свои способности в тогдашних условиях, когда большинство населения было неграмотным? В России 1914 года учился лишь один из 15 жителей (всего 11 миллионов). В СССР 1975 года — 90 миллионов из 255. Неграмотных у нас практически нет. А во всем мире их доныне многие сотни миллионов.
«Хотя Д. Прайс оперирует фактами из истории науки, по существу, его мышление антиисторично, — подводит итог профессор В. Столетов. — Автор рассматривает историю так, что все условия развития науки принимаются за неизменные: экономическая структура мира, социальный строй, уровень образования, доступность научных знаний для народа и т. д. … При анализе будущего науки необходимо пользоваться конкретно-историческим методом. А он заставляет, исследуя существующее, на этой основе выходить за пределы данного общественного строя».
Преодолеть ограниченность буржуазной социологии науки позволяет марксистско-ленинское учение с его конкретно-историческим подходом. А конкретный исторический пример, подтверждающий его справедливость, — почти 60-летний опыт первого в мире социалистического государства.
Предвидя небывалый научный, технический и социальный прогресс в коммунистическом будущем, Ф. Энгельс говорил: «Лишь сознательная организация общественного производства с планомерным производством и планомерным распределением может поднять людей над прочими животными в общественном отношении точно так же, как их в специфически биологическом отношении подняло производство вообще. Историческое развитие делает такую организацию с каждым днем все более необходимой и с каждым днем все более возможной. От нее начнет свое летосчисление новая историческая эпоха, с которой сами люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в частности естествознание, сделают такие успехи, что это совершенно затмит все сделанное до сих пор».
Дорогу в эту новую историческую эпоху начало прокладывать первое в мире социалистическое государство. Именно оно впервые сделало реальностью сознательную организацию производства, его планомерное развитие в общенародных масштабах. Оно доказало свою способность эффективно управлять не только социально-экономическим, но и научно-техническим прогрессом.
Сейчас никого не удивишь таким, например, сообщением: киевские специалисты разрабатывают систему управления Академией наук, задуманную как часть общегосударственной автоматизированной системы управления СССР. Об этом рассказано в монографии «Основные принципы и общие проблемы управления наукой» (1973 год), где анализируются возможности рациональней организовать исследования не только в академических, но и других учреждениях — в промышленности, в высшей школе. Таких трудов все больше и у нас, и за рубежом, что тоже воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Между тем не так уж и давно казалась странной сама мысль о каком бы то ни было «регулировании сверху», о «государственном командовании фронтом поисков». Что же сделало ее привычной, притягательной даже на Западе, где дружно ополчались десятилетия назад на эту «очередную советскую новацию»? Ее успешное осуществление в СССР, которое началось еще до того, как развернулась научно-техническая революция.