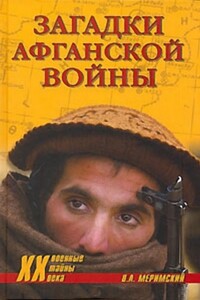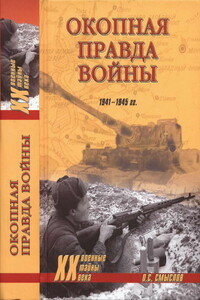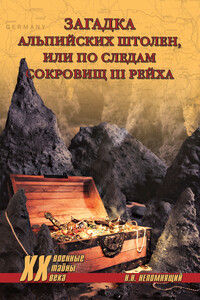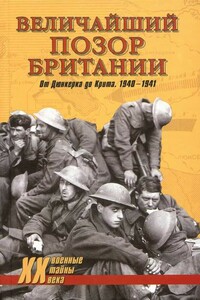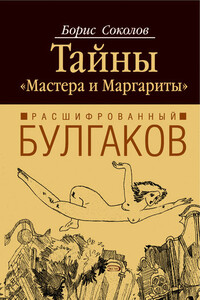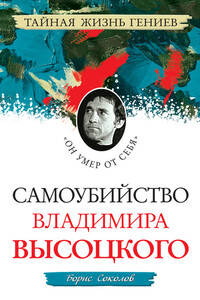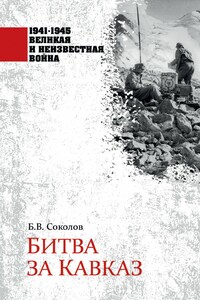После убийства Кубе группа Казанцева готовила покушение на его преемника на посту генерального комиссара группенфюрера СС Карла Готтберга, прославившегося жестокими карательными экспедициями против партизан и мирного населения. Но здесь партизан ждала неудача. Был разработан детальный план покушения, очень напоминающий типичные заказные убийства в России в конце XX – начале XXI века. Завербованный людьми Казанцева электромонтер театра Игорь Рыдзевский должен был провести в свою мастерскую, окна которой выходили на фасад здания генерального комиссариата, снайпера с бесшумной винтовкой с оптическим прицелом. Один из агентов, работавших в генеральном комиссариате, по кличке Иванов, должен был подать сигнал в тот момент, когда Готтберг будет приближаться к зданию, и тогда снайперу М.И. Макаревичу предстояло поразить группенфюрера с дистанции 200 метров отравленными пулями, а затем вместе с Рыдзевским скрыться на конспиративную квартиру. Была уже назначена дата акции – 15 октября 1943 года. Однако в этот день Готтберга не оказалось в городе, а несколько дней спустя Иванов был арестован, и связь с Рыдзевским прервалась. Макаревич так и остался в одном из партизанских отрядов под Минском. Запасные же варианты покушения на Готтберга претворить в жизнь не удалось из-за того, что с марта 44-го партизанская зона под Минском оказалась в плотной блокаде, и Казанцеву и его людям больше не удалось проникнуть в город. Поэтому Готтбергу предоставилась возможность самостоятельно покончить с собой в мае 45-го, сразу после поражения Германии. Но до этого люди Казанцева попытались завербовать несколько сотрудников генерального комиссариата. Справка об одном из них, приведенная в отчете Казанцева, читается как короткий анекдот: «Обрабатывался Кандыбович, бывший управделами Совнаркома БССР. Обработка его успехом не увенчалась. Слишком он был предан немцам». Хорош же был управляющий делами правительства Советской Белоруссии, который даже в начале 44-го, когда в поражении Германии уже никто не сомневался, был «слишком предан немцам»!
Л. Рендулич так классифицировал советских партизан, опираясь на их собственную терминологию: «Советские люди сами различали регулярных и диких партизан. Регулярные партизаны действовали, поддерживая тесную связь с Красной Армией, и при помощи радио и самолетов находились в постоянном контакте с ее штабами. Среди высшего руководства таких партизан было немало офицеров Генерального штаба Красной Армии. Централизованность руководства партизанскими отрядами была очевидна, ибо при подготовке и проведении какого-либо значительного наступления немецких или русских войск партизаны в этом районе немедленно активизировали свои действия с целью дезорганизации снабжения и срыва связи между частями немецкой армии, захвата и ликвидации складов с боеприпасами и нападения на места расквартирования войск. Эти действия стали тяжелым бременем для армии и представляли собой немалую опасность. Ни на одном другом театре военных действий не было такого тесного взаимодействия между партизанами и регулярной армией, как на русском. Бывали случаи, когда во взаимодействие с частями Красной Армии вступали силы партизан, насчитывавшие до 10 тыс. человек. Сильно растянутый фронт немецкой армии чрезвычайно облегчал партизанским соединениям маневрирование и отход. Да и подвоз оружия, боеприпасов и продовольствия при таких условиях больших трудностей для них не представлял.
Основная масса партизан состояла из добровольцев из местного населения, но были и случаи принудительной записи в партизаны. Командный состав и офицеры связи партизан обучались в специальных партизанских школах и затем сбрасывались в немецком тылу с самолетов или тайно переводились через линию фронта. Особенно действенную помощь партизанам оказывали различные военные специалисты, как например минеры, которые своей изобретательностью ставили немецких солдат каждый раз перед новыми неприятными неожиданностями».
Рендулич также подчеркивает роль партизан в добывании разведданных: «Советские агенты и шпионы готовились и действовали не по принципу тщательного отбора и личных качеств, а массами, что является очень характерным для коллективного мышления советских людей. Командование, очевидно, не придавало особого значения тому, что если несколько сотен агентов сбрасывалось на парашютах над одним районом, то 90 % из них погибало. Для него было важно, чтобы кто-нибудь из них достиг поставленной цели». Интересно, что немецкая разведка в рамках операции «Цепеллин», забрасывая в советский тыл тысячи агентов без тщательной подготовки, расчитывала, что хотя бы несколько процентов из них достигнут цели. При этом надо оговориться, что подавляющее число германских агентов была из числа советских военнопленных и перебежчиков, на которых руководство абвера и СД смотрело прежде всего как на расходный материал. Уцелевшие же советские агенты обычно находили помощь в партизанских отрядах. При этом, как признает Рендулич, партизаны проявили большую сноровку в добывании разведданных.