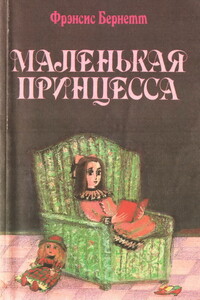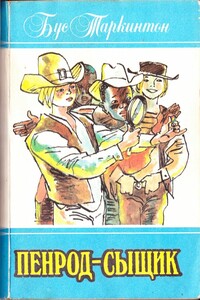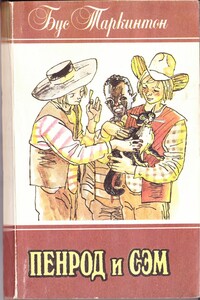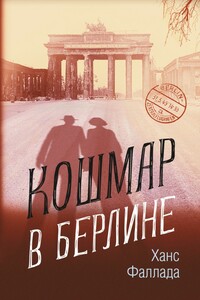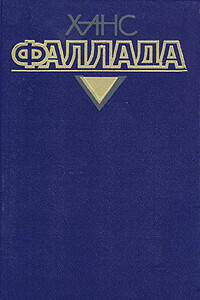Наверно, Фридолин часто плакал бы горькими слезами, если бы барсуки умели плакать, но и без слез он частенько грустил и падал духом. Дивное лето уже не радовало его. Он думал о том, как все-таки тяжело жить скопом, и в мечтах уже видел себя совсем одиноким в чудесной, выстланной мхом норе, а рядом — кладовка, битком набитая морковью, и все это далеко-далеко от людей, от собак и барсуков.
Мама Фридезинхен часто утешала его мудрыми словами.
— Сыночек, — говорила она, — не отчаивайся и не падай духом. Твоя сестра входит в возраст, когда уже пора думать о собственном доме, — она просто еще сама не знает, чего хочет. Но однажды она прозреет, и мы с тобой отдохнем от нее.
Так оно и вышло. Как-то ночью они втроем отправились на дальнюю экскурсию в местность, где еще ни разу не бывали. На песчаном склоне стояли редкие буки — последние деревья Хуллербушского леса. Здесь они росли уже вперемежку с древними, искривленными ветром соснами, толстые корни которых извивались на песчаной почве, точно змеи. На песчаном склоне виднелось множество дырок — это были кроличьи норки, а внизу, насколько хватало глаз, расстилались поля и луга.
Едва Фридерика увидела этот склон, она начала беспокойно бегать взад и вперед, тыкалась своим рыльцем во все кроличьи норки и коротко, взволнованно пищала. Наконец, она остановилась перед какой-то норкой, над которой, точно арка, изгибался гигантский смолистый корень, села и без обиняков объявила: тут она сидит, тут и останется.
Напрасно мудрая матушка Фридезинхен говорила ей, что этот склон совершенно не приспособлен для барсучьих нор. Кролики, этот беспокойный и шумный народец, не дадут ей покоя, они ведь вечно во что-то барабанят, к тому же в такой близости от полей и лугов ей будут постоянно мешать люди и собаки. Фридезинхен говорила прекрасно, но яйцо опять было умнее курицы, и матери с сыном в конце концов пришлось вдвоем убираться восвояси, оставив Фридерику на кроличьем склоне.
Но на обратном пути, в лесу, Фридезинхен показала сыну покинутую нору, которая представлялась ей куда надежнее и спокойнее. На склоне небольшого холма посреди густейшего букового леса находилась покинутая лисья нора, ее коридоры, искусно прорытые, выходили наружу как раз между гигантскими, покрытыми зеленым мхом валунами; у подножья холма лежал маленький лесной пруд. Конечно, тут совсем не было милого солнышка, а в самой норе стояла ужасающая вонь. Ведь лиса — это не то что барсук, лиса нечистоплотный зверь, и нос ее привычен к вони. Она не брезгует собственное дерьмо, которое называют «пометом», оставлять в квартире и остатки пищи тоже оставляет гнить и разлагаться дома и только радуется этой вони. Но если забыть об этом, то лисья нора много надежнее и спокойнее той, что выбрала Фридерика, — мать горестно сопела, думая о неразумной дочери.
В последующие дни Фридезинхен с сыном еще несколько раз навестили Фридерику. Иной раз они заставали ее дома, но она не желала больше даже словом с ними перемолвиться, ни разу не вышла к ним, наоборот, стоило им приблизиться, как она, ворча, пряталась в свою нору. Она стала совсем уж необщительной. Но им часто случалось приходить в отсутствие Фридерики, она где-то рыскала в поисках пропитания, тогда мать, любопытная, как все женщины, вместе с сыном забиралась в бывшую кроличью нору и осматривала захваченное дочерью помещение. Здесь она не скупилась на похвалы, так как Фридерика все устроила образцово.
Красиво выстланная мхом и длинными травинками комнатка на глубине двух метров была очень искусно обустроена, а толстые корни сосны предохраняли нору от посягательств недобрых людей. Рядом с главной комнатой находились еще две, поменьше, одна служила кладовой, другая — клозетом, и в кладовой уже лежали в образцовом порядке буковые орешки, желуди и коренья. Семь коридоров прорыла себе Фридерика, и от одного выхода до другого было не менее пятнадцати-двадцати метров, так что она могла спастись бегством в любую сторону. Земля возле каждого выхода была твердая и гладкая, как гумно, а потому на ней незаметны будут следы-предатели. Четыре вертикальные шахты обеспечивают приток свежего воздуха.