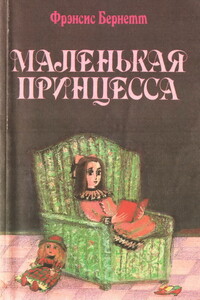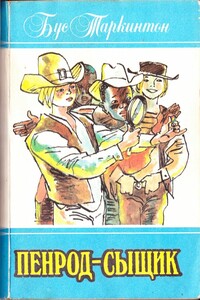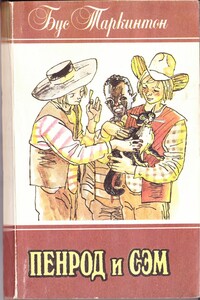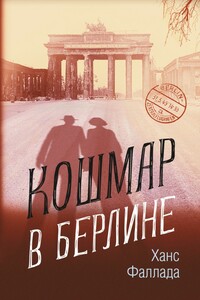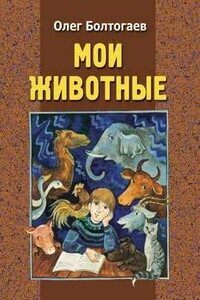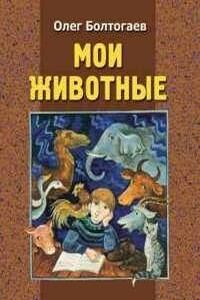— Сколько же трудов все это требует, — вздохнул он, — содержать квартиру хоть в маломальском порядке — это же словами не выразить! Я уж вижу, придется мне делать генеральную уборку, проверить все запасные ходы. Да уж, в недостатке усердия Творец всех зверей меня обвинить не может. Держу любое пари, я самый усердный из барсуков.
Тут он достиг наконец искусно спрятанного выхода из запасного коридора, но перед тем как вылезти наружу, Фридолин еще немного посидел. Его уши улавливали малейший звук, откуда бы он ни исходил, нос — все запахи, но ничем опасным сейчас не пахло, ни один посторонний звук не нарушал летней тишины. И вот он вылез из норы, озираясь, посидел на берегу и, наконец, отважился подойти к воде и напиться; это длилось долго, так как он, наслаждаясь, пил маленькими глоточками.
Затем он опять тихо сидел внизу. И обдумывал, начать ли ему сейчас генеральную уборку, то есть пройти насквозь все свои коридоры, или же лучше подняться по склону и понежиться на солнышке. И, решив, что сегодня утром он уже достаточно потрудился, Фридолин стал карабкаться вверх по склону, медленно и тяжело.
Добравшись до главного входа, он тут же улегся на спину, подставив солнышку живот и плотно прижав лапы к телу. Так вода у меня в животе быстрее прогреется, думал он, сладко ворочаясь с боку на бок. Солнце действительно здорово припекало, к тому же благодаря усилиям собаки солярий теперь был лучше защищен от ветра — поистине уютное местечко. Какое же неимоверное напряжение — с самого утра сожрать жабу, подумал Фридолин, и, вероятно, уже от одной мысли об этом напряжении сразу заснул. Он действительно очень нуждался в отдыхе.
Но звериные уши слышат и во сне. Фридолин вдруг проснулся. Он лежал тихо-тихо, на самом припеке, уши его ловили звуки со всех сторон, глаза же, насколько позволяло углубление, в котором он лежал, опасливо обшаривали округу.
Но барсучьи уши не уловили ничего подозрительного, воздух, как всегда в теплый летний день, гудел от хлопанья крылышек тысяч насекомых, парящих, танцующих, порхающих в нем: златоглазки и поденки, комары, шмели и пчелы. Снизу доносилось тихое бормотанье озера, едва слышный шорох камышей, ни ветерка… Нет, ничего подозрительного не было слышно…
Зато глаза, глаза!.. Вон то дерево, ведь оно должно быть белым, разве нет? А сейчас оно красное, по крайней мере снизу. И кажется, оно стало толще? И вдруг Фридолин почуял едва уловимый запах двуногого…
Теперь он был почти уверен, что, пока он спал, что-то враждебное приблизилось к нему. Но барсук не шевелился, он лежал неподвижно, на спине, подтянув лапы к животу. Ему, так же как и всем барсукам, с рождения было свойственно перед лицом опасности притворяться мертвым, словно бы в уверенности, что великодушный противник не причинит вреда мертвому врагу. Но каждый нерв Фридолина был натянут как струна, все мускулы напряжены. Барсук готов был при первом же движении врага юркнуть в нору, то есть в безопасное место.
Но Мушка в красном платье стояла у ствола березы и вовсе не собиралась двигаться с места. Затаив дыхание, даже не моргая, она с восхищением смотрела на зверя, так смешно лежавшего на солнышке. Ни Верная Рука, ни Виннету не могли бы подкрасться незаметнее Мушки. Она не думала о том, что надо ступать с носка и прямо держать спину, зато примечала каждый камешек на дороге, каждый сухой лист.
Вот так она и сумела совсем близко подобраться к барсуку — осторожно, сперва один шажок, потом еще. Она видела, что барсук спит, и не решилась подойти еще ближе, боясь его разбудить. Сердце у нее громко билось, и колени дрожали. Наверное, никогда в жизни не была она так взволнована, потому что волнения из-за рождественских подарков — это волнения совсем другого рода.
Мушка тихонько прислонилась к березовому стволу, но, как ни тихо она это сделала, легкий шорох все же раздался, когда спина ее коснулась ствола. Тут она увидела, как проснулся барсук, и сразу поняла — он насторожился: дрожь пробежала по его телу, в особенности заметно дрожал круглый животик, потом открылись глаза и зашевелились уши.