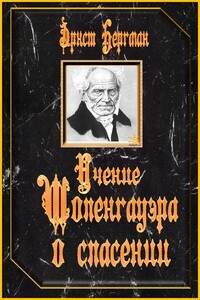11 Е.1,р. 62-63.
бб
таемым и, однако, отчетливым текстом, и его застывший внимательный взгляд уже следит за появлением чего-то незримого. Но все это странным образом сдержано у Веласкеса, только готовится произойти, и еще не достигнуто неизбежное, неустранимое присутствие газет Бэкона, его кресел—почти животных, его занавеси перед персонажем, его сырого мяса и кричащего рта. Следовало ли будить эти присутствия?—спрашивает Бэкон. Не было ли лучше, бесконечно лучше у Веласкеса? Следовало ли извлекать на свет эту связь живописи с истерией, отказываясь одновременно и от фигуративного, и от абстрактного пути? Пока наш глаз восхищается обоими Папами, Бэкон допрашивает себя о них>12.
И все-таки, почему сказанное справедливо именно для живописи? Можно ли говорить об истерической сущности живописи, имея в виду чисто эстетическую клинику, независимо от всякой психиатрии и всякого психоанализа? Почему музыка не выделяет таких же чистых присутствий, только сообразных уху, превратившемуся в поливалентный орган звуковых тел? Почему—не поэзия или театр, коль скоро существуют поэзия Беккета и театр Арто? Эта проблема, касающаяся сущности каждого искусства и, в частности, его клинической сущности, не так сложна, как о ней говорят. Ясно, что музыка глубоко проникает в наше тело и наделяет нас ухом в животе, легких и т. д. Волны, нервная система ей очень сродни. Но важно, что она переносит наше тело и тела вообще в другую стихию. Она избавляет тела от инертности, от материальности их присутствия. Она развоплощает тела. Так что можно с уверенностью говорить о звуковом теле и даже о музыкальных объятиях, например в мотиве, но это, как говорил Пруст, нематериальные и развоплощенные объятия, где нет больше «инертного и непокорного духу остатка материи». Музыка как будто начинается там, где заканчивается живопись,—именно это имеют
12 Е. I, р. 77.
в виду, говоря о превосходстве музыки. Она следует бегущим линиям, которые проходят через тело, но обретают плотность за его пределами. Тогда как живопись располагается выше по течению, там, где тело выскальзывает, но, выскальзывая, обнажает образующую его материальность, чистое присутствие, из которого оно состоит и которое невозможно обнажить иначе. Именно живопись обнаруживает материальную реальность тела с помощью своей системы линий-цветов и своего поливалентного органа—глаза. «Наш глаз ненасытен, у него течка»,— говорил Гоген. Особенность живописи в том, что на глаз возлагается весь груз материального существования, вещественного присутствия—пусть даже одного только яблока. Музыка, воздвигая свою звуковую систему и вводя свой поливалентный орган, ухо, обращается отнюдь не к материальной реальности тела и придает развоплощенное, дематериализованное тело самым что ни на есть духовным сущностям: «крылатые, величественные, божественные удары цимбал “Реквиема” возвещают нашим изумленным ушам не что иное, как пришествие существа, которое наверняка, если воспользоваться словами Стендаля, накоротке общается с другим миром...»>13 Поэтому клинической сущностью музыки является не истерия; музыка более сопоставима с галопирующей шизофренией. Чтобы исте-ризовать музыку, понадобилось бы вернуть в нее цвет, пройти через рудиментарную (или, напротив, изысканную) систему соответствия звуков и красок.
13 Marcel Moré, Le dieu Mozart et le monde des oiseaux, éd. Gallimard, p. 47.