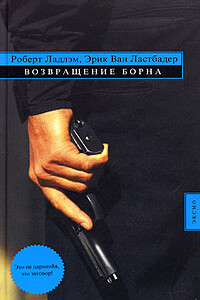— В чем дело?
— От кого был звонок?
— От Мортона Саундерса из Госдепа.
— Из Госдепартамента? Не из ЦРУ?
— Ты что, спрашиваешь, чтобы потом проверить, не соврал ли я?
— Нет, сэр, — сказала она, берясь за ручку двери. Надо немедленно связаться с Сивом. — Спасибо, сэр.
— Минг! — услышала она, уже открывая дверь. — Если твоя лояльность распространяется на меня в большей степени, чем па Сива Гуарду, то почему ты не называешь меня боссом?
— Собери их вместе.
* * *
Комната, освещенная только полосами света, просачивающегося сквозь бамбуковые жалюзи. За окном течет Сена, а за ней — Военная Академия и Марсово Поле.
— А что произойдет, когда все три части состыкуются? Может, сверкнет молния и ударит гром?
М. Мабюс сгорбился над столом, его ловкие пальцы так и сновали, прижимая друг к другу металлические части.
— Никогда не видел все три клинка в сборе, — сказал Мильо.
— Возможно, Терри Хэй и Мун — единственные люди, которые видели, — отозвался М. Мабюс.
— Только представить себе такое! Эта бесценная реликвия когда-то лежала в земле прямо у меня под носом. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
М. Мабюс поднял голову.
— Почему грустно? — удивился он. — Лес Мечей теперь у тебя.
Но не надолго, подумал Мильо, если Волшебник добьется своего. Я должен объегорить его, как однажды он объегорил меня. Гениальность Волшебника в том, что он умеет пользоваться талантами людей, окружающих его. В Ангкоре он бы погорел без Терри Хэя. Но тот эпизод оказался точкой во времени, как Мильо понял несколько лет назад, с которой начался закат его собственного могущества.
Когда-то он был силен, как Александр Македонский. Его влияние распространялось на всю Юго-Восточную Азию, от Бирмы до Вьетнама. Он воспитывал своих кхмеров так, как считал нужным, изощряясь, как изощряется сердобольный родитель, ваяющий из своего отпрыска тот идеальный образ, который замыслил.
А потом пришли американцы с их заносчивостью и с их деньгами. Нет американца на всем земном шаре, Думал Мильо, который бы по-детски не приравнивал деньги к могуществу. В этом тайна американской души. В этом вся Америка, ее сила и ее гордость. Это еще молодая страна. Ее еще не попирала, как Францию, нога завоевателя.
Несмотря на недавние лицемерные излияния, она увидела во Вьетнаме и Камбодже не зеркало, вкотором отразилась ее гнилая душонка, а скорее неудачный урок, во время которого некоторые сверхретивые ученики сделали что-то незапланированное мудрым учителем. Ну а как с нарушением законов, божеских и человеческих? На этот счет Америка помалкивает.
Как и Римская империя, Америка слепа к гниению, подтачивающему фасад ее культуры. Вонь от этого разложения сильнее, чем на кладбище.
Как это несправедливо и нелепо, думал Мильо, наблюдая, как М. Мабюс стыкует вместе мечи, что столько лет он был так привязан к американцам, как преступник, приговоренный к колесованию, привязан к своему колесу. Для них он был не больше, чем пешка в их большой игре. Они приказывали, и он, согнувшись в три погибели от подобострастия, подчинялся их приказам.
Теперь, когда он стал свободным, когда получил, наконец, возможность манипулировать ими, как они столько лет манипулировали им, он может позволить себе роскошь оглянуться на позорное прошлое и увидеть его таким, каким оно было. Но, странно, эта вновь обретенная свобода не подслащала горечи тех лет. Наоборот, полное осознание своего рабства — а оно пришло к нему, как озарение свыше, как свет Господа, вразумивший Св. Павла, шагающего по пыльной деревенской дороге — разозлило его до чертиков. Теперь он понимал, что эта ярость, слепленная из ядовитой мякоти его рабства, снабдит его энергией, в которой он так нуждается. Она будет его путеводной звездой во всех последующих действиях.
И все-таки в глубине души он побаивался, что его ярость не сможет подавить его страха перед Волшебником. Он знал Вергилия куда лучше, чем Логрази сможет когда-либо узнать, но преимущества для себя в этом он не видел. Совсем наоборот, знание того, на что способен Волшебник, подкармливало его страх, как кочегар подкармливает пламя новыми порциями топлива.