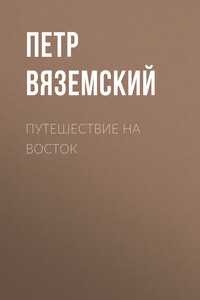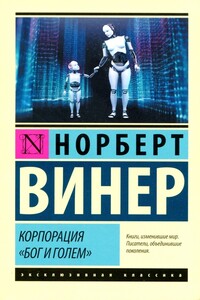и тут же прибавляет (чтобы никому завидно не было): «Правда, что и господа изрядные есть скотики»; удивляется, что офицер шатается по улицам без слуги. Понимаем брезгливость его, когда он находит, что Париж немножко почище свиного хлева>: ибо нечистота Парижа, особенно тогдашнего, не подлежит спору; когда он говорит, что людям, не вовсе оскотившимся, переносить нечистоту его весьма трудно. Но мудрено поверить, что во всей Франции столовое белье так мерзко, что праздничное у знатных людей хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается; что оно так скверно вымыто, что гадко рот утереть. Далее жалуется оп, что дыры на салфетках зашиты голубыми нитками. Одним словом, анекдот путешественника, который, проезжая чрез один немецкий город, видел, как в гостинице рыжая женщина била мальчика, и записал в своих путевых запасках: «Здесь все женщины рыжи и злы» – может совершенно быть применен к большей части наблюдений Фон-Визина. Нет сомнение, что нравы во Франции, я вообще во всей Европе, далеки были от непорочности в эпохе, ему современной. Романы Кребильона, Лакло, Луве, оскорбительные поучения насмешливой философии Вольтера, легкие начертания общества, означенные Дюкло, Шамфором, частные записки, светские хроники, исповеди и переписки, в коих сохранилась для нас нравственность сей эпохи, изобличают нам легкомыслие умов ее, послабление правил я какую то беспечность, ослабление в жизни, которые ее характеризируют. Но негодуя на суетность и на малодушие поколения и не храня в негодовании своем ни снисхождение, ни меры, как подводить ему было под одно нарекание, или лучше сказать, под одно проклятие тех, кои служили оплотом против общего падение, сражались с предрассудками и пороками? как ему не отделить тех, которые, не смотря на все слабости, на все постыдные попущения сей эпохи, соединением необыкновенных дарований, мужественным развитием умственных сил, придали ей блеск, важность и влияние, едва ли встречаемые в других эпохах истории человечества? Как ему, автору, не сочувствовать мужам знаменитым, которые в лице своем умели возвысить авторское звание до степени уважение, могущества я господства? Не говорю, что он должен был суеверно идолопоклонствовать пред ними, как пред кумирами, и в раболепном обожании исповедывать и самые заблуждения их: независимость мнений, право судить суть неотъемлемые принадлежности мыслящего существа; но зачем же впадать в другую крайность? Как о людях, по крайней мере возвышенных, судить с надменностию, с небрежением, приличными спеси или ожесточению одного невежества? зачем быть клеветником или отголоском клеветы (в этом случае все равно), упоминая о людях, которые составляют лучшее и нетленное отделение общества и остаются на вершинах столетий, когда падают и исчезают целые поколения? Посмотрите, какими гнусными красками изображает Фон-Визин первостепенных писателей французских: «Koнечно, ни один из них не поколеблется сделать презрительнейшую подлость для корысти или тщеславия». Даламберта, Дидерота, Мармонтеля описывает он шарлатанами, обманывающими народ за деньги, побродягами, таскающимися по передним вельмож для испрашивания милостыни. Можно было судить о сих писателях с беспристрастием и строгостию: таковому суду подлежали они во многих отношениях. Много грехов было на их совести и уме. Но одно есть суд праведный, хотя и неумолимый, и другое – злоба и ожесточение. Одному покоряешься, потому что оно законно в убедительно; на другое негодуешь, потому что оно действие ослепленной страсти. Посмотрите, как выводит он в своих письмах ученого и бескорыстного Даламберта, коего бескорыстие обратило внимание Европы. Всем известно, что он отказался от обольстительного приглашения Екатерины, желавшей ему поручить воспитание Наследника Престола, и от убедительных увещаний Прусского короля, предлагавшего ему место в Берлинской Академии. Мы знаем, что из благодарности и привязанности к своей кормилице, призревшей его отверженное в бесприютное младенчество, гласно называл он ее своею матерью и жил под смиренным кровом ее около тридцати лет, когда известность его, почетное положение в обществе и связи его с первыми лицами открывали ему выгоды общежития, коими он легко мог бы пользоваться. Неужели Фон-Визин не знал того, что знала вся Европа, не знал, что Императрица, предлагая Даламберту 100.000 рублей ежегодного оклада, приглашала его приехать в Петербург со всеми приятелями своими, обещая ему и им все удобности жизни и, может быть, прибавляет она, «более свободы и спокойствия, нежели имеете вы у себя». «Вы не поддаетесь, продолжает она, убеждениям Прусского короля и благодарности, которою ему обязаны; но у короля нет сына. Признаюсь, я так дорожу воспитанием сына моего, и вы мне столь нужны, что я, может быть, слишком приступаю к вам». Но ни обольщения столь блестящей фортуны и звания столь почетного, ни обольщения Государыни, ласкавшей самолюбие его, не могли поколебать философа: он пребыл верен независимости, отечеству и друзьям. Почтешь ли следующий отвыв отзывом литератора: «Из всех ученых более всех удивил меня Даламберт: я воображал лицо важное, почтенное, а нашел премерзкую фигуру и преподленькую физиогномию!» И что же могло побудить Фон-Визина противоречить таким образом общему мнению, общему убеждению? Вот что приезд в Париж русского полковника, брата одного из Петербургских временщиков, к которому явились Даламберт, Мармонтель и другие, для засвидетельствования нижайшего почтения и будто с тем, чтобы чрез него достать подарки от нашего Двора. Нет ничего мудреного, что люди, взысканные милостию Екатерины, что Дидерот, его облагодетельствованный, что Даламберт, преданный ей благодарностию, что Мармонтель, коего сочинения жгли в Париже в то время, как Екатерина переводила их в России, искали случая изъявить ей чувства преданности своей в лице русских путешественников, которые, по возвращении своем, могли довести о том до ее сведения. Но вовсе несбыточно, чтоб, например, Даламберт, который сам переписывался с Императрицею и, кроме того, в друге своем Вольтере имел надежного посредника, стал искать по передним случая обратить на себя благосклонное внимание Екатерины, которое уже и так было ему опытами доказано. Напрасно многие обвиняют так называемых философов XVIII столетия в противоречии между творениями и поступками их, из коих первые отзываются неограниченною независимостью, а другие частым искательством покровительства. Не должно забывать, что сии писатели составляя ли как бы секту, сильную обольщением своим над умами, но слабую пред могуществом и деятельностию врагов своих; что Сорбона, парламент, приговорами и кострами, казнили творения их; что Бастилия и изгнание угрожали часто их личной свободе. Им нужны были покровительство и опора. Однако же называлось