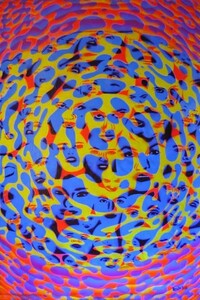Один из персонажей — Гарсен — мучим весьма небезосновательным подозрением в том, что он трус, бросивший свой боевой пост под благовидным предлогом. Вот это он никак и не может решить для себя сам и зовет на помощь любящую его Эстеллу (у которой, кстати сказать, за плечами кое-что похуже). Между ними происходит следующий диалог: «Эстелла, я трус? — Как я могу знать, любимый, я ведь не в твоей шкуре. Это ты должен решить сам. — Вот этого я как раз и не могу сделать… — Но ты должен вспомнить, у тебя должны быть причины поступить так. — Да, но настоящие ли это причины? — Какой ты сложный…».
Особенную остроту мучениям Гарсена придает тот факт, что, поскольку у него уже нет будущего и уж он не сможет совершить ничего, что позволило бы пролить дополнительный свет на мотивы его прошлых поступков и как-то иначе их интерпретировать, решать теперь, трус он или нет, будут другие. В этом контексте и родилась знаменитая, часто цитируемая фраза Сартра: «Ад — это другие». Адские муки в том и состоят, что ты целиком находишься во власти других и сознаешь это, и они за тебя решают, кто ты есть, а сам ты не в состоянии вмешаться. Это и есть феноменологическая формула смерти: окостенение прошлого и превращение его в достояние другого. Пока ты жив, ничто еще не потеряно, твое прошлое принадлежит тебе, и оно меняется вместе с твоими поступками. Так в творчество Сартра входит феноменологическая тема времени.
Мы вовсе не собираемся сейчас давать сколько-нибудь развернутую характеристику литературного творчества Сартра: мы только хотели показать воочию, что между философским и литературным его трудом существует непосредственная связь и, так сказать, вполне определенное соответствие, даже если это соответствие и нельзя назвать однозначным. В общей форме у нас о такой связи много писали, мы постараемся лишь немного конкретизировать ее. Общая оценка, конечно, еще впереди, но уже сейчас уместно заметить, что идеалистические посылки феноменологии и экзистенциализма предопределили довольно узкий диапазон художественного творчества Сартра, однообразие главных персонажей и перевес рефлексии и рассуждения над непосредственным образным воплощением темы. В дальнейшем мы добавим немало подробностей к этому суммарному суждению, а пока постараемся ответить на вопрос, который может возникнуть у читателя: почему мы должны приписывать недостатки Сартра-писателя идеалистическим заблуждениям Сартра-философа? Не вернее ли будет сказать, что дело просто в ограниченных возможностях его писательского дарования? Разумеется, и такое суждение было бы правильно, но только оно описательно, лишь отмечает факт, а не объясняет его. «Ограниченность» таланта есть узость писательского видения мира, а с Сартром нам только особенно повезло: мы точно знаем, и знаем благодаря самому писателю, какие философские установки определили его художественный стиль и какая концепция человека легла в основу его беллетристических произведений. Теперь самое время попробовать расшифровать сартровскую философию человека в ее первоначальном варианте, запечатленном в тяжеловесном абстрактном трактате «Бытие и Ничто», увидевшем свет в 1943 году в оккупированном фашистами Париже.
Да, пожалуй, в этих или подобных им словах можно выразить общий смысл только что названной нами книги. Ведь в ней буквально сказано, и сказано почти в самом конце, в заключение долгих и часто темных рассуждений, не всегда проясняющихся и после пространных описаний немалого числа житейских ситуаций: «человек есть бесплодная страсть». Мысль сама по себе далеко не новая, меланхолические излияния на эту тему известны со времен появления первых памятников письменной литературы. Неодинаковы, однако, способы обоснования столь неутешительного вывода. Сартр пришел к нему извилистым путем большой учености, доставшейся по наследству от философской традиции. В его трактате слились в единое русло три направления мысли: феноменологическая философия Гуссерля, «экзистенциальная аналитика» (учение об основных определениях человеческого существования исключительно как проявления «феномена бытия») Хайдеггера и идеалистическая диалектика Гегеля. Слились, но только для того, чтобы с большей, чем у Хайдеггера, основательностью возвестить правоту «философии существования» — «экзистенциального» подхода к пониманию человека. Вот это упование автора трактата и стоит со всевозможной строгостью проверить, ибо здесь речь уже заходит об основном символе веры писателя, который и определяет направление его творчества.