Воспоминания рассказчика о детстве — это воспоминания о быте старой патриархальной Москвы и, шире, России, обладающие силой обобщения. «Детский» же сказ передает впечатления ребенка от каждого нового предмета, воспринимаемого в звуке, цвете, запахах. Это определяет особую роль в тексте цветовой и звуковой лексики, слов, характеризующих запах и свет. Мир, окружающий героя, рисуется как мир, несущий в себе всю полноту и красоту земного бытия, мир ярких красок, чистых звуков, волнующих запахов:
Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; а обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони — глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем... И я нюхаю вербу; горьковато-душисто пахнет лесовой горечью живой, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, так приятно. Какие пушинки нежные, в золотой пыльце... Никто не может так сотворить. Бог только...
Объектом чувственного восприятия и эстетической оценки становится в повести и само слово, ср.: Рождество... Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым.
Богатство речевых средств, передающих разнообразные чувственные ощущения, взаимодействует с богатством бытовых деталей, воссоздающих образ старой Москвы. Развернутые описания рынка, обедов и московских застолий с подробнейшим перечислением блюд показывают не только изобилие, но и красоту уклада русской жизни: Глядим — и не можем наглядеться, — такая-то красота румяная! И по всем комнатам разливается сдобный, сладко-миндальный дух... И всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная, и зернистая икра, сардины, кильки, копченые рыбы всякие...
Изобразительное мастерство писателя особенно ярко проявилось в отображении в слове сложных, нерасчлененных признаков, создании «совмещенных» образов. С этой целью в тексте используются речевые средства, дающие ситуативно обусловленную, многоаспектную характеристику реалии:
— сложные эпитеты: радостно-голубой, бледно-огнистый, розовато-пшеничный, пышно-тугой, прохладно-душистый;
— метонимические наречия, одновременно указывающие и на признак предмета, и на признак действия: закуски сочно блестят, крупно желтеет ромашка, пахнет священно кипарисом, льдисто края сияют;
— синонимические и антонимические объединения и ассоциативные сближения: скрип-хруст, негаданность-нежданность, льется-мерцает, свежие-белые и др.
На фоне предельно точных описаний природы и бытовых реалий выделяются указательные и неопределенные местоимения, заменяющие прямые наименования. Они связаны с сопоставлением двух миров: дольнего и горнего. Первый воссоздается в тексте во всем его (мира) многообразии. Второй для рассказчика невыразим: И я когда-то умру, и все... Все мы встретимся там.
Детальные характеристики бытовых реалий, служащие средством изображения национального уклада, сочетаются в тексте с описанием Москвы, которая неизменно рисуется в единстве прошлого и настоящего. Показательна в этом отношении глава «Постный рынок»: постепенное расширение пространства соотносится в ней с обращением к историческому времени, при этом исторические памятники Москвы и различные реалии, с ней связанные, осознаются рассказчиком как неотторжимые элементы его личной сферы (не случайно в этом фрагменте текста выделяется повторяющееся притяжательное местоимение мой): граница между прошлым и настоящим разрушается, и личная память повествователя сливается с памятью исторической, преодолевая ограниченность отдельной человеческой жизни:
Что во мне бьется так, наплывает в глаза туманом? Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы... и дымные облачка за ними, и это моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов... — были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка, под бугром, — я знаю. И щели в стенах — знаю. Я глядел из-за стен... когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат... — все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны... — все мнится былью, моею былью...
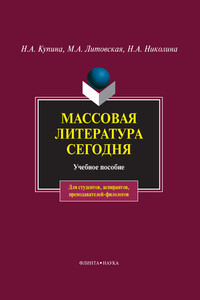
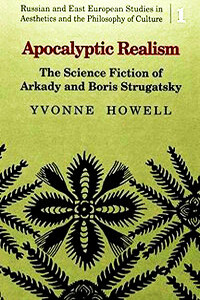
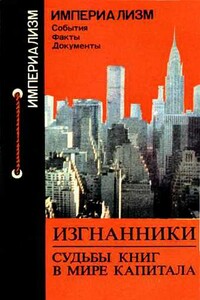
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)