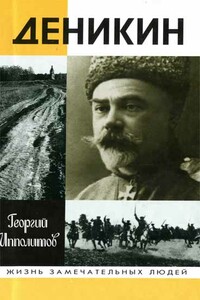В Берлине Лассаль закончил свое обширное научное исследование о философии Гераклита Эфесского, которое и вышло в конце 1857 года в двух объемистых томах. Это сочинение доставило ему огромную популярность и славу в ученом мире, сразу поставив его в ряды лучших ученых исследователей того времени. Однако мнения специалистов об этом труде расходятся. Одни рассматривают это исследование как составившее эпоху в истории древнегреческой философии, другие, напротив, утверждают, что оно содержит мало такого, чего нельзя было бы найти у Гегеля, что оно представляет собой лишь «иллюстрацию гегелевских положений гераклитовскими иносказаниями». Но все, не исключая и оппонентов, единодушно признали, что это – глубокий и серьезный труд. Конечно, справедливо то, что Лассаль предстает здесь правоверным старогегельянцем, – надо сказать, что сторонником этой идеологии он оставался всю жизнь. Материалистическое миросозерцание, родоначальниками которого были его друзья Маркс и Энгельс, осталось для него навсегда книгой за семью печатями. Мы это увидим ниже, особенно в его «Системе приобретенных прав».
Внешний конкретный мир, конкретная реальность: науки, искусства, экономический и социальный строй и прочее – все это, на его взгляд, лишь продукты, воплощение идей, проявление логического трансцендентального духа, а категории мысли рассматриваются им как вечные метафизические «сущности», беспрерывное движение и вечное развитие которых определяют историю и ее содержание. Как видит читатель, отсюда недалеко до метафизики чистейшей воды.
Основная мысль лассалевского «Гераклита» – это раскрытие вечного процесса мирового движения и развития, рассмотренного в качестве основного принципа всего сущего.
«Понятие процесса образования, тождество всеобъемлющей противоположности, бытия и небытия – есть божественный закон. Сама природа есть только воплощенное проявление этого закона, образующего ее внутреннюю суть: день есть движение, стремление обратиться в ночь, ночь – стремление обратиться в день; восход солнца – лишь беспрерывный заход и т. д. Вселенная – это лишь видимое осуществление этой гармонии противоположных начал, – гармонии, которая пронизывает все сущее и управляет им…» («Herakleitos», т. 1, с. 24).
Живой интерес, с которым Лассаль раскрывает сущность гераклитово-гегелевской философии, становится еще большим, когда он касается этической стороны учения древнегреческого мыслителя. Уже в древние времена, – доказывает Лассаль, – заметили, что Гераклит, поставивший противоположности начал основным первоначальным принципом, отрицает противоречия этих начал (т. 1, с. 119). Для Бога нет добра и зла, для Него «все хорошо и справедливо, только люди называют одно справедливым, другое несправедливым» (т. 1, с. 92),– утверждал Гераклит, предваряя этим пантеистическое миросозерцание Спинозы. Отдельная личность вступает в свое существование путем обособления, индивидуализации, посредством отрешения себя от божественного, мирового, всеобщего; ее обособление уже само по себе составляет несправедливость против общего единства в процессе непрерывного развития и образования, – несправедливость, которая может быть сглажена лишь возвращением отдельной личности к целому, общему. Поэтому этика Гераклита есть в то же самое время вечно основной принцип нравственности и сводится к одному положению: «Самопожертвование ради общего» («Hingabe an das Allgemeine»). С этой точки зрения им осуждаются эгоизм, произвол, надменность и т. п. Поэтому слава, которая выпадает на долю человека лишь после его смерти, есть истинное бытие человека в его небытии, продолжение его земного существования, достигнутое и действительно существующее бессмертие и нетленность человека (т. 2, с. 436). Это целое, общее нашло у Гераклита свое конкретное выражение, воплощение прежде всего в государстве.
Мы видим здесь поразительное сходство Гераклита с Гегелем. У эфесского философа, как и у его берлинского собрата, государство – высшее проявление объективного духа, абсолютная самоцель (Selbstzweck). У него, как и у Гегеля, государство есть воплощение свободы каждого в единстве всех. Гераклит считает государство воплощением «божественного», Гегель, в своем преклонении перед эллинским идеалом, называет государство «земным богом». И Лассаль, конечно, с особенным удовольствием подмечает это сходство, тем более что это так соответствует культу государства самого Лассаля. Воодушевление и вера Лассаля в великую миссию государства не только как защитника, но и как ревнителя права, прогресса и культуры проходит красной нитью через все его ученые труды, агитационные брошюры и политические речи. Позднее, в страстной полемике с манчестерцами, он, как мы это увидим ниже, в своем преклонении перед культурной миссией государственной машины хватил даже далеко через край.