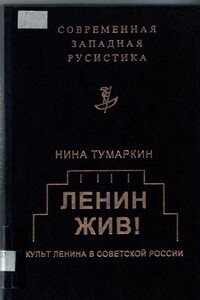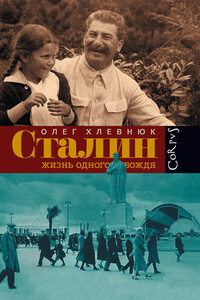Глава 3
Дан Хили
Жизнь, списанная со счетов
Ослабленные заключенные, заключенные-инвалиды и биополитика ГУЛАГа
Имелась ли у ГУЛАГа биополитика? Связанные между собой понятия «биовласть» и «биополитика» были в общих чертах определены М. Фуко и подхвачены историками медицины и тела, изучающими разнообразные исторические контексты [Фуко 1996: 238–267][116]. Предположение, что советская система лагерей принудительного труда использовала политику («биополитику») для управления качеством и характером жизни на уровне личности и на коллективном уровне контингента, помещенного в лагерь, может показаться противоречащим интуиции. Масштабы смертности в лагерях были чудовищными, явно опровергая наличие какой бы то ни было заботы властей о здоровье заключенных. Хотя и имеются разногласия по поводу точного количества заключенных, погибших из-за недоедания, изматывающего труда, болезней и насилия, уровень смертности в лагерях был очень высок, особенно в период Второй мировой войны и голодные годы[117]. Однако при этом в ГУЛАГе существовали медицинские учреждения, призванные следить за физическим состоянием заключенных и якобы способствовать его улучшению, и работа таких учреждений определялась правилами и нормативами, которые заслуживают систематического и тщательного изучения. Рассекречивание и научная публикация административных архивов ГУЛАГа предоставила нам ранее отсутствовавшую возможность составить представление о том, что говорило и делало лагерное руководство, и в настоящее время большинство ученых полагают, что эти документы представляют собой небезупречные, но достоверные рассказы о методах работы ГУЛАГа (включая сокрытие правды и ложь)[118]. Внимательное прочтение этих документов и критический взгляд помогут нам оценить, что эти начальники и работавшие на них врачи думали по поводу своих действий относительно труда заключенных. Понимание истории лагерной медицины начинается с тщательного исследования официальных установок и действий[119].
Иными словами, истории ГУЛАГа обошли стороной анализ важной медицинской инфраструктуры лагерей, которая с начала 1930-х годов находилась в подчинении у ОГПУ – НКВД – МВД. Санитарный отдел ГУЛАГа, или Санотдел, обслуживал и узников, и вольнонаемных работников[120]. Хотя его представители и учреждения всегда обеспечивались хуже, чем гражданские медицинские службы, в системе лагерей они присутствовали повсеместно. Архивные записи позволяют оценить масштабы деятельности этой «встроенной» медицинской службы – ведомственной службы, аналогичной медико-санитарным службам, действовавшим при Народных комиссариатах по военным и морским делам, а также путей сообщения. Центральным аппаратом Санотдела в Москве руководил врач, который распоряжался штатом медиков и гражданских служащих, работавших медицинскими инспекторами, специалистами по санитарии и статистиками; накануне Второй мировой войны они составляли 8,6 % персонала центрального ГУЛАГа[121]. К 1939 году сеть Санотдела ГУЛАГа насчитывала 1171 лазарет, медпункт и больницу на 39 839 коек. Во время Второй мировой войны она увеличилась до 165 000 коек, а к 1953 году, накануне смерти Сталина и последовавшего за ней освобождения миллионов заключенных, в распоряжении медицинской службы ГУЛАГа имелось 111 612 коек[122]. В 1938 году в системе было 1830 дипломированных врачей, из которых, вероятно, треть была заключенными, а также 7556 медсестер и фельдшеров, многие из которых тоже были заключенными