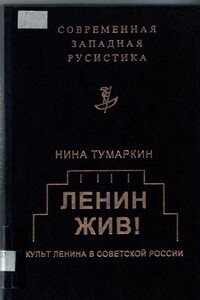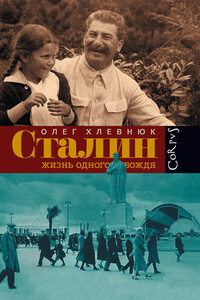ГУЛАГ систематически отторгал заключенных, которых больше не мог использовать, или тех, кто оказывался экономически невыгодным для дальнейшего содержания. С самого начала сталинский ГУЛАГ регулярно выпускал тяжелобольных заключенных, правда, это не касалось большинства политических преступников и рецидивистов. Освобождение по инвалидности или другим медицинским показаниям в основном распространялось на обычных уголовников, которые составляли подавляющее большинство заключенных в сталинских трудовых лагерях и колониях. Лица, признанные инвалидами, могли быть освобождены по закону, который позволял выпускать заключенных с тяжелыми, неизлечимыми или психическими заболеваниями[107]. Таким образом, сталинское руководство использовало Уголовно-процессуальный кодекс для искусственного снижения смертности в ГУЛАГе. ГУЛАГ не только освобождал находившихся между жизнью и смертью, но и, возможно, причислял часть погибших к числу освобожденных [Khlevniuk 2004]. Освобождение по медицинским показаниям (актирование) вычеркивало неизлечимо больных и нетрудоспособных из списков ГУЛАГа. Люди, освобождаемые как неизлечимые, часто были смертельно больны, и администрация всех лагерей это осознавала. В. А. Исупов отмечает, что инвалиды актировались и освобождались для того, чтобы умереть [Исупов 2000]. В марте 1934 года начальник ГУЛАГа М. Д. Берман осудил одного медика из Белбалтлага, который не успел задокументировать освобождение больного заключенного до того, как тот умер на рабочем месте[108]. 28 февраля 1935 года прокурор Дмитлага Московской области обратился в Прокуратуру СССР с просьбой пересмотреть процедуру досрочного освобождения заключенных по болезни, ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс[109]. Его жалоба заключалась в том, что иногда на рассмотрение дел таких заключенных уходили месяцы, и зачастую они просто не доживали до освобождения. Прокурор утверждал, что, если бы местный народный или областной суд мог рассматривать подобные дела для Дмитлага, они могли бы быть решаться в течение двух-трех дней, и, следовательно, резкого увеличения смертности в лагере можно было бы избежать[110].
Сотрудники ОГПУ – НКВД – МВД освобождали заключенных, которые больше не считались полезными. Вот что пишет об этом выживший в ГУЛАГе Олег Волков:
Их скапливалось так много, этих беспомощных, износившихся на работе заключенных, стариков с переставшими гнуться суставами, с пудовыми грыжами, тронувшихся умом, оглохших и ослепших, что надо было их куда-то сбывать – освобождать скрипучий рабочий организм ГУЛАГа от этого балласта… Вот и стали пачками выпроваживать за зону. Пусть сами отыскивают себе нору, куда заползти, как почуявшие близкую смерть старые собаки, и где дождаться Великой Избавительницы… Я видел, как выпускали за зону этих гулаговских ветеранов труда [Волков 2000].
Гулаговские чиновники прекрасно осознавали свои действия. По словам М. Элмана, «политика освобождения» непригодного для работы балласта «была мерой сокращения расходов, позволяющей сэкономить на потреблении продуктов питания, на охранниках и другом персонале, и, следовательно, уменьшить дефицит и повысить производительность труда в ГУЛАГе» [Ellman 2002: 1151–1172].
Лагерные начальники часто переводили больных и инвалидов в другие лагеря, чтобы улучшить собственные показатели заболеваемости и смертности. В 1945 году начальник Санитарного отдела лагерей и колоний Хабаровского края, некто Ходаков, обвинял начальство другого лагеря в том, что оно умышленно переводит к ним туберкулезников и других больных заключенных. Он жаловался, что Приморский лагерь «освободился от своего балласта и тем самым улучшил статистические показатели»[111]. Начальник Санитарного отдела Молотовского областного УИТЛК, некая Тома, поясняла, что смертность в ее учреждении была бы ниже, если бы ей разрешили освобождать больных заключенных: «С августа 1944 года мы почти никогда не отпускали людей как неизлечимых… Я думаю, это объясняет <…> высокую смертность, которую мы имеем в настоящее время. У нас был бы более низкий уровень смертности, если бы мы освободили людей немного раньше, чем могли»