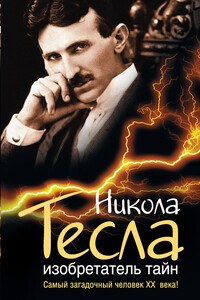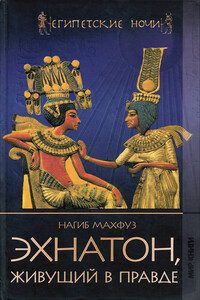— Ну? — свирепо выпучился на него Костериус.
— Послал за ним казачка. Скоро будет.
Но царю всё хуже и хуже, он уж и очи прикрыл, дышит тяжело, часто, запалённо. Видимо догадываясь, отчего задержка с лекарством, шепчет, разлепив спёкшиеся губы:
— Кровь, кровь отвори пока...
И Костериус вспоминает, как однажды в присутствии бояр отворил кровь Алексею Михайловичу и как ему сразу получшало. Да так, что царь тут же велел пустить кровь всем присутствующим, чтоб и им было хорошо после этого. Никто перечить не посмел, упёрся лишь боярин Стрешнев:
— Я стар, государь, во мне крови-то чуть осталось. Уволь.
— Так что? Выходит, твоя кровь дороже моей, — осерчал Алексей Михайлович. — Стыдно, Родион Матвеевич. А ещё родня. Царь тебе добра желает, а ты...
Огорчать далее высокого родственника Стрешнев не решился, позволил и себе кровь отворить. Правда, ему не получшало оттого, наоборот, похудшало, голова закружилась и тёмные бабочки в очах затрепыхались. И Алексей Михайлович сам устыдился своей настойчивости:
— Ты уж прости меня, Родион Матвеевич. Я ведь как лучше хотел. Прости, брат.
Отпустив домой занедужившего после такого «лечения» боярина, велел царь послать ему в подарок лучшего своего сокола, дабы загладить вину, а лечцу своему выговорил:
— Ты что ж, Костериус, али не знал, что ему нельзя отворять?
— Знал, государь.
— А что ж молчал?
— Не хотел царскому велению перечить, — нашёлся хитрый лечец.
— Дурак. И у царского веления бывают помутнения.
Пока пускал царю кровь, явился запыхавшийся окольничий Матвеев. Костериус тут же достал чёрный флакон, ткнул его в нос окольничему, затем, плеснув тёмной жидкости в склянку, протянул:
— Пей, да скоренько.
— А ты?
— Я уже пробовал.
— Это не в счёт без свидетелей, — сказал Матвеев и, единым духом опорожнив склянку, сунул её лечцу. — Теперь себе налей.
«Пока пробуем, — подумал раздражённо Костериус, — царю, может статься, уж и не понадобится». Но всё ж налил и себе зелья, выпил.
Оно и вправду, когда налили царю и поднесли пить, он уж в полусознании обретался и половину склянки на себя пролил. Что-то пробормотал. Матвеев не понял что, переспросил:
— Что, государь, что?
— Патриарха звать велит, — раздражённо сказал лечец. — Собороваться хочет.
Артамон Сергеевич обернулся к постельничему, спросил с нескрываемой укоризной:
— Аль не слышал, Иван Максимыч?
— Слышал. Бегу.
Всё наоборот поворотилось. Постельничему, самому близкому к царю человеку, по сути второму лицу в царстве, все приказы выдают, словно он казачок на посылках. Но что делать? Случай-то из ряда вон. Царь помирает.
«Прости, Господи, — крестится Матвеев, подумав такое. — Ведь ещё не старый, сорок семь всего, и не болел вроде очень. А вот поди ж ты, Всевышний зовёт».
— Что ж не легчает-то государю? — спросил лечца окольничий строго. — Сделай ещё чего, не стой орясиной.
— Да, да, да, — согласился Костериус и достал другой пузырёк, наливал в склянку дрожащими руками. Именно по дрожанию этому Матвеев понял: худо дело. Выпил и это зелье. Оказалось горькое. Сплюнуть хотел, но сдержался, царю ведь питьё-то назначено. Ревниво проследил, как пил сам лечец.
Но и это лекарство более половины на сорочку государю пролилось. А что и в рот попало, не прошло. Закашлялся Алексей Михайлович, почитай, всё и разбрызгал. Открыл глаза, спросил с натугой, но ясно:
— Где Иоаким[3]?
— Послали за ним, государь. Скоро будет.
— Скоре бы, скоре, — пробормотал царь, опять смежая веки.
Патриарх влетел в покои, принеся холод и мокреть улицы на рясе. Он был решителен и твёрд, и это передалось всем, даже у Костериуса руки трястись перестали. Он сделал своё дело, чем мог помог, теперь приспела пора патриарху делать его дело — соборовать умирающего. Все отступили от ложа царского, дабы не мешать высокому иерею. И тут окольничему Матвееву в ум пало: «А престол-то пуст будет! Господи, надо к утру поспеть, пока все не узнали, надо поспеть». Однако во дворце уже начиналась суматоха. Первыми появились в покоях государевых его сёстры: во главе со старшей Татьяной Михайловной — Ирина и Анна, а там и плачущая дочь Софья Алексеевна