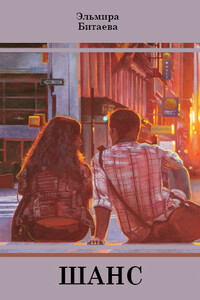Надвинув улыбку, как забрало, и прикрывая трубу под мышкой, он невозмутимо отстранил торговцев, с криками обступивших поезд. Не уступил свой чемодан стайке босоногих мальчишек-носильщиков, серых и проворных, словно воробьи на городской площади. Уже у выхода со станции сказал «нет, красавица, спасибо» нечесаной цыганке, рвавшейся ему погадать — «эй, изумрудный, почто такой гордый», и обогнул хладнокровных боливийцев, предлагавших подбросить до поселка на повозке, запряженной мулами, на грузовике или на авто с багажником. И все это не переставая сиять металлической улыбкой, которая сбивала с толку мужчин и будила воображение женщин.
Он помнил, что в детстве бабушка всегда говорила, мол, улыбкой он пошел в тетю Нинон. «Тетка твоя Нинон, вертихвостка, днями напролет все пела да лыбилась без причины», — поясняла старуха. Тетя Нинон, как он позже узнал, была рыжеволосой девчушкой, ничем не примечательной, кроме дивной чувственно-ангельской улыбки, ее единственного сокровища, любимой игрушки и неотразимого оружия. Восхитительной улыбки, которая — кисло предрекала бабушка, замечая, как Нинон из окна щедро дарит ею всякого проходящего юношу, — и доведет ее до беды. «Будешь так улыбаться, — предупреждала ее бабушка, — и глазом не моргнешь, как окажешься на сцене в кабаре». Ах, искристая улыбка тети Нинон, которая и после замужества не перестала посылать ее любому, кто бы ни взглянул, хотя муж-скотина бил ее по губам — всегда по губам, — и ей приходилось ворожбой возвращать себе чары, становившиеся от каждой ссадины только могущественнее. Пока в один прекрасный день тетя Нинон, в чем была, — а была она в простеньком платье из тафты, но улыбалась ослепительнее, чем когда-либо, — не воплотила в жизнь бабкино предсказание. Даже не сменив имени — оно и так подходило лучше некуда, — она подалась петь и вести беспутную жизнь в кабаре на улице красных фонарей.
Бельо Сандалио посмеялся про себя. Волна тепла обдавала его душу всякий раз, как он вспоминал свою безумную тетушку Нинон. Он шагал по белой тропинке, и голова его пылала на солнце, как факел. На полпути между станцией и первой улицей селения раскинул выцветшие шатры цыганский табор. Он шел и разглядывал молодую цыганку, преспокойно усевшуюся справить малую нужду на солнышке. Колокол возвестил об отходе поезда. Бельо Сандалио прикинул, что сейчас часа два с чем-то.
Часов он не носил. За что тоже прослыл чудаком. Еще он не носил колец и жилетной цепочки. И равным образом не пожелал вставлять золотой зуб, как многие щеголи тех времен, доходившие порой до того, что вырывали здоровый натуральный — лишь бы сверкать золотым. «Труба — мое единственное сокровище», — говорил он, улыбаясь, в барах, перефразируя тетю Нинон.
Даром что от Аурелии он проехал не больше тридцати километров и пейзаж кругом представлял собой все то же лысое пекло, что-то в здешнем воздухе будоражило его дух и заставляло сердце шибче колотиться. Всего в сотне метров перед ним, словно мираж райской птицы посреди пустыни, змеилось и дрожало селение Пампа-Уньон, такое же живое и развеселое, как и год назад. Селитряной кризис, заметный по бездымным трубам фабрик на соседних приисках, не успел еще ни на искру умалить блеска разгульного города. Издалека доносился гвалт лавок, шум улиц, а в сухом проспиртованном воздухе витала та самая сила, что в день получки так притягивала шахтеров, подгоняла их пыльный размашистый шаг и заставляла сглатывать слюнки при одной мысли о колоссальной попойке, ожидавшей их, как только доберутся до местных кабаков.
В пятидесяти метрах от домов он остановился, коротко сплюнул и поставил чемодан на землю, чтобы закурить. Солнце так жарило, пышущие пески так переливались, а небо исходило таким страшным зноем, что, казалось, чиркнешь спичкой — и весь мир охватит пламя. Он припомнил похожее чувство: когда он впервые играл в цирковом оркестре на одном прииске, воздух был таким жгучим, что с первой нотой трубы шатер мог бы вспыхнуть. Тогда он, помнится, сбежал из дому после смерти бабушки и прибился к «всемирно известной цирковой труппе». Пампа-Уньон еще и в помине не было. А были только прииски, которые он объезжал один за другим, аккомпанируя нищим представлениям в составе оркестра из шести оголодавших музыкантов. Пока прима-балерина, она же гуттаперчевая женщина, ассистентка фокусника, нарезательница билетов и продавщица бумажных вертушек, не выскочила замуж за управляющего очередного прииска и цирк не развалился. Бельо Сандалио не захотел возвращаться в Икике и стал играть в городских оркестрах.