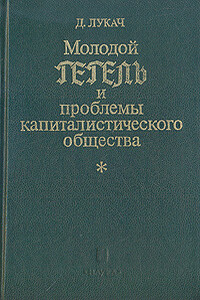Само собой разумеется, что в течение всего этого времени появляются отдельные писатели, которые в своей практике выступают как представители более или менее реалистических тенденций, но, во-первых, они не создают и не вызывают ни своей практикой, ни своей теорией реалистического литературного движения. Во-вторых, и теория и практика этих писателей делают крупнейшие уступки антиреалистическим тенденциям эпохи, Гергардт Гауптман колеблется между продолжением своей натуралистической линии и различными антиреалистическими литературными направлениями (символизм, неоромантизм и т. д.). Другие писатели, у которых подобные колебания не воплотились в произведениях, пытаются ввести антиреалистические тенденции в теорию литературы. При этом они развивают еще дальше то, что является общей слабой стороной натурализма вообще. Уже у самого значительного представителя европейского натурализма, у Золя, изображение общественных противоречий часто заменяется фаталистическим символизмом «сил природы». В Германии такое уклонение литературы от освещения крупных общественных проблем современности проявляется в замене картины общественного развития мистикой наследственности («Будденброки» Томаса Манна), мистикой сексуальности как роковой «власти природы» (Ведекинд) и т. п. Таким путем реальным движущим силам общественной жизни придается характер мистических «космически вечных» сил. Под общим натиском реакционных тенденций эпохи империализма реализм в буржуазной литературе отходит в прошлое.
Это направление развития является неизбежным следствием загнивания буржуазной культуры во всех областях. В среде самой германской буржуазии не могло возникнуть мало-мальски серьезное оппозиционное движение против германского империализма. По мере развития империализма империалистические, милитаристические, шовинистические идеи все больше распространяются в буржуазной литературе. Победа реформистских тенденций в социал-демократической партии, их перерастание в социал-империализм, организационная и идеологическая слабость левой оппозиции в германской социал-демократии — все это мешало отдельным представителям мелкобуржуазных оппозиционных тенденций в литературе развиваться в сторону сближения с революционным рабочим движением. (Меринг с известным основанием указывает, что натурализм своими наиболее существенными положительными сторонами был обязан именно такому сближению оппозиционной части мелкой буржуазии с рабочим движением.)
В теории литературы антиреалистические тенденции получают свое выражение в форме отрицания теории «подражания» действительности. Борьба против реализма и против теории подражания направляется не против ограниченности и недостатков буржуазного реализма и теории «подражания природе», разрабатываемой уже древними мыслителями. Эта борьба заострена прежде всего против всякого реализма, против основ материалистической теории познания, против отражения искусством действительности. В Германии эта тенденция к ликвидации основного положения реализма имеет длинную историю. В рамках настоящей статьи, разумеется, невозможно подробно останавливаться на этой истории. Мы должны ограничиться лишь анализом тех теорий, влияние которых существенным образом сказалось именно в империалистическую эпоху. Такой теорией является в первую очередь теория «вчувствования», которая представляет собой общую литературно-теоретическую и философскую основу всех буржуазных и мелкобуржуазных художественных направлений в империалистической Германии вплоть до экспрессионизма, т. е. вплоть до совершенно откровенных антиреалистических направлений (школа поэта Георге, неоклассицизм). Решающим в этой теории является то положение, что ни познать, ни отобразить действительность такой, какая она есть, мы не в состоянии: все, что, как нам кажется, писатель дает в качестве отображения действительности, все то, что нам представляется человеческим восприятием предметов природы в отличие от самих предметов, является не чем иным, как вкладыванием человеческих мыслей, чувств и т. д. во «внешний мир». Родство этой литературной теории с «интроэкцией» Маха — Авенариуса очевидно.