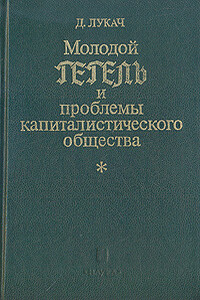Отход от реализма проявляется здесь в самой крайней степени; художественное изображение действительности уступает место крикливой и лживой фашистской пропаганде, и вся история и литература извращаются в духе этого «расового искусства» «германского мира». К такому же эклектическому решению приходит Геббельс. Он подходит к вопросу «исторически». «Экспрессионизм имел здоровые наслоения, так как сама эпоха имела в себе нечто экспрессионистское»49. Геббельс находит кое-что правильное в «новой предметности». Он также отбрасывает целиком только натурализм, который «выродился в изображение среды и в марксистскую идеологию». Таким образом в фашистской литературной теории и литературной практике господствует варварская беспринципность, при которой однако политическую линию выдает полный отказ от всякого реализма, растущий страх перед всяким литературным выражением недовольства обманутых масс и истерическая национальная и социальная демагогия.
Но характерно то, что экспрессионистское наследство воспринимается, хотя и условно, лишь теми вождями национал-«социализма», которые сами вышли из деклассированной интеллигенции послевоенного периода. Позиция самого Гитлера отличается еще более грубо воинственным примитивизмом и варварством. Гитлер во всех направлениях современного искусства видит исключительно декадентство, упадок, «большевизм в искусстве»50.
В то время как у идеологов типа Геббельса преобладают фразы об «обновлении культуры» национал-«социализмом», которые, правда, быстро истощаются, по мере того как среди введенных в заблуждение масс возникает какое-либо серьезное движение (идея «второй революции»), Гитлер в своей книге цинично проповедует диктатуру монополистического капитализма, господство прусско-юнкерской «традиции» и слепую покорность. Варварству настоящего должно, по мнению фашистов, в точности соответствовать варварство в прошлом. Фашистские «историки» литературы угрожают «заново» написать историю немецкой и даже всемирной литературы и показать при этом такой путь развития, который с самого начала телеологически ориентировался бы на появление освободителя северогерманской расы — Адольфа Гитлера. При этом перенимаются чисто прусские приемы фальсификаций и лжи, свойственные уже истории литературы бартельсовского типа. Простое вычеркивание неудобных прогрессивных или революционных писателей (Гейне, Георга Форстера и др.) оказывается уже недостаточным. Одновременно делаются попытки превратить в предшественников фашистского иррационализма тех писателей, которые имели хотя и путанную в соответствии с уровнем развитии тогдашней Германии, но прогрессивную или революционную идеологию. Так, национал-«социалисты» пытались опозорить своими восхвалениями память о Фридрихе Гельдерлине и Георге Бюхнере (извращая Гельдерлина, фашистская «история» литературы идет по следам Дильтея и Гундольфа и рассматривает его как предшественника Ницше). У историка литературы Цизарца Шиллер оказывается исходным пунктом процесса преодоления рационализма — процесса, который достиг высшей точки в лице Ницше; а другой историк литературы, Фабрициус, уже прямо делает из Шиллера предшественника Гитлера.
Но центральным пунктом в фальсификаций истории литературы фашистскими историками литературы являются выявление и пропаганда всех реакционных тенденций, которые когда-либо выступали в истории немецкой литературы и особенно в послевоенный период. Линден только продолжает разработку теорий Боймлера, когда противопоставляет раннему романтизму романтизм в его высшей форме, «высокий романтизм» периода 1802–1816 гг., т. е. периода самых худших сикофантов реставрации — Адама Мюллера и Герреса, которые по своему духовному уровню стояли намного ниже французских и английских идеологов реставрации. «Этот высокий романтизм… борется за новое обоснование немецкого духа в национально-религиозном смысле. Этот романтизм борется за новую общественную форму. Своим острым разумом, ясно проникающим в действительность, он видит, что старый общественный порядок — накануне своего разрушения, что растущее развитие техники и капитализма грозит полностью обезличить и обездушить машинного человека, осужденного на разделение труда. С неумолимой резкостью он констатирует механизирующее влияние голого экономического образа мышления, в котором гибнут все истинные человеческие ценности. Этим самым романтизм борется за органические религиозные ценности человечества, идейную систему которых создал немецкий идеализм, исходя из подлинно германского духа. Новая форма общественной связи — социализм, основанный на религии и коренящийся во всей целостности народа, — подготовлена в произведениях Адама Мюллера, Арнима, Баадера… В этой государственной и общественной системе романтизма, в его высшей форме, немецкий идеализм поднялся на вершину, своего духовного значения»51 (подчеркнуто мною. — Г. Л.). Итак, Геррес и Адам Мюллер — это телеологическое завершение «еще не раскрытых» Гете и Шиллера (о Лессинге Линден даже не упоминает). Точно так же, делая «всемирноисторический» обзор, Линден видит в Муссолини осуществление дантовской мечты «об избавителе Италии, который железной рукой выметет с гумна мякину выродившихся соотечественников и построит новое царство силы и справедливости»52. По Линдену, всемирная история обнаруживает два противоположных течения: для западноевропейского духа — это Ренессанс и Просвещение; западноевропейский дух через Просвещение попадает в «болото» рационализма. На эти два течения «немецкий дух» ответил по-германски, иррационалистически — ответил Реформацией и немецким идеализмом, который согласно «теориям» фашизма достигает своей вершины в самом обскурантском, реакционном «высоком романтизме». История литературы фальсифицируется и изображается как предыстория Третьей империи.