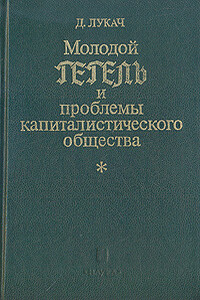Исходным пунктом розенберговской «эстетики» является «расовый» идеал красоты. Этот идеал он рассматривает как новое открытие национал-«социализма». Он говорит: «Почти все философы, которые писали об эстетическом состоянии или об оценках в искусстве, прошли мимо факта существования расового идеала красоты в физическом смысле и связанной с расой же высшей духовной ценности»30. Ссылки на роль расы в истории идеологии однако совсем не новость. Еще Плеханов указывал, что эти ссылки — старый хлам и используются для того, чтобы прекратить «…исследование как раз там, где оно должно было бы начаться. Отчего история французской поэзии непохожа на историю поэзии в Германии? По очень простой причине: темперамент французского народа был таков, что у него не могло быть ни Лессинга, ни Шиллера, ни Гете. Ну, благодарим за объяснение; теперь мы все понимаем»31. Рассуждения фашистских расовиков в Германии ниже уровня даже и подобного рода объяснения, представляя самый махровый антисемитизм. Вновь обретенный Розенбергом ключ к разрешению всех загадок искусства и литературы прошлого и настоящего он иллюстрирует тем примером, что у Гомера и в других произведениях греческой поэзии герои и боги представлены в виде блондинов.
«Но в лице Терсита появляется враждебный «светловолосому герою» мрачный и безобразный предатель, явное воплощение шпиона Передней Азии в греческом войске. Это — предшественник наших берлинских и франкфуртских пацифистов»32.
Вся история человечества изображается фашистами в извращенном виде, в виде расовой борьбы. Для того чтобы возмущение мелких буржуа не обратилось против их действительного врага, против монополистического капитализма, их натравливают против «евреев», в действительности против всех трудящихся, против пролетариата. «Евреями» фашисты, раскрывая тем самым классовый характер своей демагогии и лжи, объявляют прежде всего марксистов, коммунистов, тех, кто за диктатуру пролетариата.
Решающим признаком еврейской «расы» по этой «теории» является, разумеется, материализм. «Еврейское искусство» никогда не являет собой ни личного, ни действительно предметного стиля, а обнаруживает только техническое умение и субъективную сноровку, ориентированную на внешнее действие: оно в большинстве случаев связано с грубо чувственными воздействиями, если не целиком проникнуто безнравственной установкой»33. Примером служит литература всех евреев, «…начиная… с дышащих местью псалмов, которые только благодаря поэтической обработке Лютера часто звучат так красиво… и кончая подлым Генрихом Гейне».
Эта черносотенно-погромная антисемитская «эстетика» «расовой красоты» с помощью совершенно софистических приемов пристегивается к кантовской эстетике. Само собою разумеется, что крайний субъективист и мистификатор Розенберг и в искусстве не в состоянии увидеть ничего объективного; он исследует только всеобщую значимость суждений вкуса и при этом присоединяется к некоторым положениям Канта. Он принимает кантовскую «целесообразность без цели», формулируя ее гораздо формальнее и субъективнее, чем это делает сам Кант, и присоединяя в качестве «реальной основы» расовый момент: «Из кантовского основоположения вытекает сейчас для нас следующий конечный вывод: притязание на «всеобщую значимость» суждения вкуса вытекает лишь из расового народного идеала красоты и распространяется лишь на те круги, которые сознательно или бессознательно несут а своем сердце одинаковую идею красоты»34.
Розенберг развивает Канта в направлении обскурантского мистического релятивизма. Уже неокантианство, как это неоднократно доказывал Ленин, «очистило» Канта от всех его колебаний в сторону, материализма. Розенберг же облачает Канта в коричневый мундир.
Но в границах единственно способного к творчеству, «арийского культурного мира» Розенбергу необходимо еще отвести особое место для немецкого искусства и литературы. Он это делает посредством грубо эклектического объединения и вульгаризации буржуазных теорий искусства империалистической эпохи. Это сводится у него кратко к следующему: «Красота, обусловленная расой как внешняя статика северной расы, — это греческий мир; красота собственно расовая как внутренняя динамика — это запад севера»35. Здесь «объединены» «теория» готики Воррингера и «фаустовский круг культуры» Шпенглера. К единственному, духовному достоянию самого Розенберга относится лишь тот поистине шутовской пример, которым он иллюстрирует противоположность в рамках «расовой красоты севера». «Лицо Перикла и голова Фридриха Великого — это два символа диапазона расовой души и идеала красоты, первоначально тождественного в расовом смысле». Розенберг не нашел ничего лучшего, чем физиономия «старого Фрица», для того чтобы охарактеризовать свой «германский» идеал красоты.