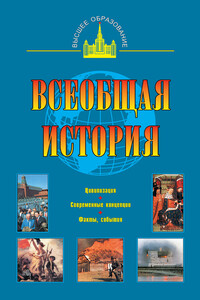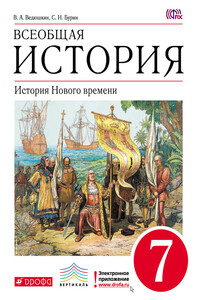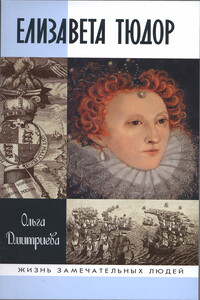[198]. Они отличались от остальных дворян происхождением, особыми привилегиями, типом карьеры, характером брачных союзов, имущественным положением и групповым самосознанием. Это было высшее военное дворянство древнего и знатного происхождения. Правда, канцлер Сегье в 1650 г. стал герцогом де Вильмором, но у него не было сыновей, так что он не положил начала новому герцогскому роду дворянства мантии.
За пределами группы герцогов и пэров критерии древности рода и знатности титула далеко не всегда совпадали. Расхождение между тем и другим нарастало по мере упрочения социальных и политических позиций должностного дворянства, и уже в начале XVII в. Луазо счел нужным отметить, что «дворянство, происходящее от звания, то есть от высших должностей или сеньерий, стоит ступенью выше, чем простые жантийомы; ибо те, кто всем этим обладает, принадлежат к разряду шевалье или сеньеров и именуются этими титулами, являющимися титулами высшего дворянства»[199]. Правило, согласно которому дворянство чем древнее, тем почетнее, Луазо распространял лишь на простых, нетитулованных жантийомов.
Соотношение между вторым и первым сословиями королевства, дворянством и духовенством, не было столь ясным и четким, как это может показаться на первый взгляд. В соответствии с тем, что духовенство считалось первым сословием, самый низший священнослужитель должен был бы почитаться выше первого из дворян. Но в действительности это было не так. Разные категории духовенства и дворянства смешались на существовавшей в общественном мнении и отраженной в этикете иерархической лестнице; спор о том, кто какую ступень занимает, не был решен до конца. На практике дворяне, особенно титулованные, признавали первенство лишь высшего клира. Самые высокопоставленные церковные прелаты являлись пэрами Франции и входили, таким образом, в высшую группу знати. Внутри этой группы, согласно этикету, они стояли позади таких светских лиц, как принцы крови, но впереди всех прочих пэров Франции. Вследствие целибата духовенство могло пополнять свои ряды лишь за счет выходцев из других сословий, в том числе дворянства. В XV–XVII вв. высшее духовенство стало более аристократическим, чем прежде: дворянское происхождение превратилось в важное условие церковной карьеры. Таким образом, первое сословие не возвышалось над вторым. При том, что оно представляло собой профессиональную группу, наделенную особым правовым статусом, духовенство, прежде всего епископат, было тесно связано с дворянством как по происхождению, так и согласно общепризнанной «табели о рангах»[200].
Вопрос о социальной значимости межсословных и внутрисословных границ принадлежит к числу самых сложных и спорных[201]. С одной стороны, исследования, посвященные герцогам и пэрам, генеральным откупщикам, членам королевского совета, парламентским магистратам, дворянству некоторых провинций, демонстрируют разнородность дворянства и когерентность отдельных составлявших его групп. С другой стороны, ряд локальных исследований свидетельствует о том, что, несмотря на внутренние различия между старым и новым, военным и должностным, богатым и бедным дворянством, его правовой статус служил основой для образования социальной общности. Впрочем, эта проблема требует изысканий в области социальной истории и выходит за пределы данного очерка, посвященного преимущественно юридическим границам дворянского сословия Франции.
Дворянство Италии конца XV — середины XVII в.
>(Александра Давыдовна Ролова)
XVI столетие — век триумфа аристократии. Эти слова, сказанные А. Вентурой по поводу Венецианского государства[202], вполне применимы ко всей Италии, как, впрочем, и к значительной части европейских стран. Но в каждой из них это явление отличалось своей спецификой, укорененной в особенностях предшествующего развития.
Италия в средние века и в эпоху Возрождения — это страна городов, развитие которых определило ее большие успехи в экономике, ее международный вес. Крупнейшие достижения культуры Возрождения связаны с городами, новая гуманистическая идеология — это в первую очередь идеология горожан. Не удивительно поэтому, что в течение более ста лет в центре исследовательской мысли находилась жизнь города. Господствовало представление, что горожане, одержавшие победу над феодалами, освободив крестьян от крепостной зависимости и добившись политического господства над деревней, нанесли тем самым сокрушительный удар феодальному миру. С конца XV в., по мнению большинства ученых, начался упадок и наступление феодальной реакции, которая со временем вытеснила с исторической арены Италии ранее столь заметные ростки буржуазии. Подобная концепция объясняет длительное отсутствие в Италии научного интереса к проблемам дворянства и феодального мира в целом. Лишь в последние десятилетия ученые вплотную занялись изучением деревни и совсем недавно обратили внимание на господствующий класс Италии