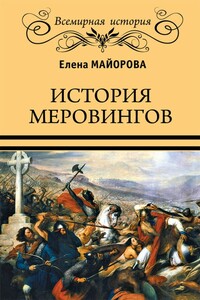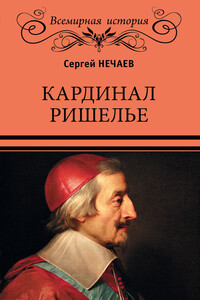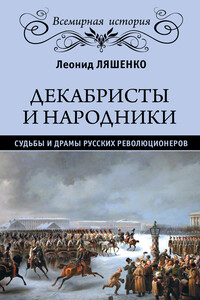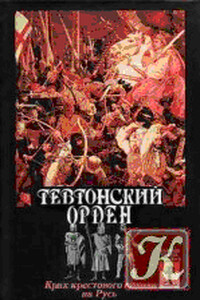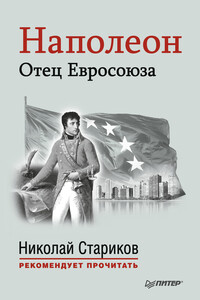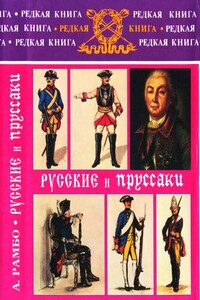Напротив, в наследовании феодов право наследников идет вразрез с правом сеньора. По строгой логике феод должен быть неделим и находиться во владении наследника, способного к службе: он переходит целиком к старшему и всегда к мужчине; право старшинства и исключение женщин — отличительные черты феодального права. Но принцип — более или менее, смотря в какой стране, — отступил перед всеобщим обычаем: младшие были допущены к дележу со старшим (это называется parage), дочери — к наследованию в случае отсутствия сыновей. Только старший получал более крупную часть и мужчины имели преимущество перед женщинами — наследницами одинаковой с ним степени.
Войны и турниры. Каждый дворянин — воин. Если он не связан специальным договором, то имеет право воевать, с кем хочет. Поэтому в клятвах верности обе стороны обязуются уважать «жизнь и члены» друг друга. Война (которую мы неточно называем «частной войной») есть общее право. Редко когда считают долгом, прежде чем начать войну, формально объявить ее.
Войну объявляют, посылая своему врагу какой-нибудь символ, обычно перчатку: это знак того, что узы верности порваны (defi). Иногда довольствуются угрозой или даже прямо начинают неприятельские действия. В войну вовлекаются, в силу закона, фамилии обоих противников, так как родственники обязаны помогать друг другу до седьмого колена. В XIII в. Бомануар задается вопросом, возможна ли война между двумя братьями; нет, отвечает он, — если они братья по отцу и по матери, потому что оба они принадлежат к одному и тому же роду; да — если они имеют лишь одного общего родителя, потому что тогда за каждого будет стоять его семья. Те, у кого есть вассалы, сзывают их на службу, и война начинается.
Феодальные войны чрезвычайно однообразны[44]. Конные воины делают набеги на поместья врага, угоняют стада, срубают деревья, жгут хлеб на поле, поджигают деревни, насильничают над крестьянами и иногда избивают их. Цель войны — овладеть замками и захватить самих противников, и этого стараются достигнуть или хитростью, или правильными действиями — сражениями и осадой. Для осады употребляют древние машины, усовершенствованные на Востоке[45]. Сражение есть стычка двух масс рыцарей, бросающихся друг на друга крупной рысью; стараются главным образом выбить противника из седла и повалить его на землю; оруженосец, стоящий позади воина, подбегает, чтобы схватить сброшенного с коня противника и овладеть его лошадью. Пленников лишают оружия и увозят, обычно привязанными к лошади. Победитель держит их в своем замке, часто скованными или даже запертыми в подземной тюрьме, пока они не выкупят себя за условленную сумму (rançon). Точно так же выкупали и замки.
Война была развлечением и доходным занятием. Опасность была не так велика, как кажется. Ордерик Виталий, рассказывая о Бремульском сражении (1119), прибавляет: «Я слышал, что из 900 сражавшихся рыцарей были убиты только трое; действительно, они были с головы до ног закованы в железо и… щадили друг друга, старались не столько убивать, сколько забирать в плен».
За недостатком войн рыцари устраивали турниры. Они выстраивались на гладком месте двумя отрядами и вступали — иногда с обыкновенным оружием — в сражение, столь же опасное, как и настоящие битвы: на турнире в Нейссе (близ Кельна) в 1240 г. пали 60 рыцарей. На турнирах также брали противников в плен и заставляли их выкупать себя.
Выкупы представляли настолько доходное дело, что рыцари и даже сеньоры простирали свои интересы за пределы военного класса, — на купцов, горожан, даже духовных лиц. Они захватывали их на дорогах, сажали в тюрьму и мучили их, чтобы получить выкуп. Немцы называли этих авантюристов Raubritter (рыцари-разбойники).
Божий мир и Божье перемирие; королевский мир. Этот военный режим нравился только рыцарям; на остальном населении он отзывался очень тяжело. А так как война была общим правом, то, чтобы прекратить ее, нужен был специальный акт — мир, и, чтобы водворить мир, необходима была власть, которая могла бы заставить уважать его.
В конце X в. церковь сделала попытку водворить мир, отбирая у рыцарей обязательство прекратить войну. Попытка началась на юге Франции рядом провинциальных соборов. Сначала имелось в виду только покровительство беззащитным людям — крестьянам, монахам, церковнослужителям: кто нападал на них, подлежал отлучению от церкви. Это был