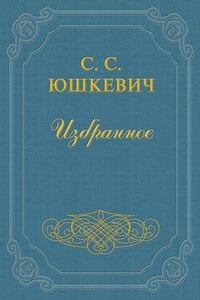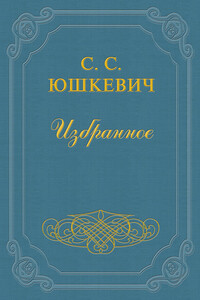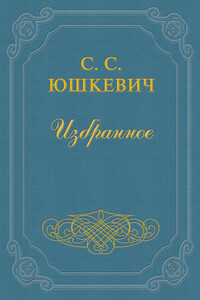Какие великолепные люди пропадали, какие сердца, какие фанатики героизма!
Товарищ Натан стал особенно близок Нахману. Он был скромный, нежный, любил книги, и нельзя было понять, как он выносил свое суровое существование. Его сила была в какой-то милой теплоте, в неотразимо убедительных жестах. И своими порывами к чистой жизни, которая мечталась ему в виде красивого города на равнине, правильно разделенного на кварталы, где в правильных, белых домах, очень низеньких и просторных жили семьи, справедливые и гуманные, все связанные одною общею радостью братства, – он скоро покорил Нахмана.
Когда наступал вечер и склады закрывались, когда над огромным, молчаливым двором появлялась луна, все небо заливалось беловатой синевою, и от него как бы нисходила тишина ночи, – оба усаживались рядом, словно влюбленные, в предчувствии радости духовного общения. Они закуривали и мечтательно глядели на синий дым, как он медленно тянулся к луне, и взоры их долго утопали в тихом и мягком небе. Тишина покоряла. Мерные удары шагов на улице отзывались как будто из другого мира, и, подобно спящему, которому мучительно не хочется прервать сладкой дремоты, так и им тяжело и больно было подумать о том, что есть жизнь действительная, каторжная.
– В этом большом городе, – говорил Натан, по привычке поднимая обе руки, как в мольбе, и указывая на толщу домов, важной громадою стоявших на горе, – есть столько богатств, что мне становится стыдно за людей, которые ничего не придумали против страданий.
Луна передвигалась куда-то вправо, Большая Медведица выходила вся из-за высокой трубы мельницы и теперь мигала всеми своими звездами, а Натан уже другим тоном, другими словами, то взволнованными, то меланхоличными, рассказывал о чистом городе на большой равнине, среди солнца, простора, цветов, где люди живут в радостном родстве.
Часто они говорили о женщинах, и снова хорошее, нравственное рождала душа Натана. Женщина! Какое другое славное, пылавшее и гревшее, как солнце, слово могло выразить то очарование, какое он переживал, когда благоговейно произносил: женщина. Вся любовь и нравственные усилия, которыми он был переполнен, звали его к падшим. Он их не знал, никогда не бывал у них, и одна только невыносимая мысль, что в мире есть падшие, вызывала в нем такое сострадание, словно погибали его сестры.
– Я полюблю только проститутку, – говорил он Нахману, и тот с волнением его слушал, – она будет моею сестрою, моею молодою матерью, Нахман, моей святой, пострадавшей.
И Нахман, подчиняясь чарам его волнения, чарам его голоса, повторял, словно клялся:
– Я женюсь на проститутке, Натан.
Натан был первым, который тронул мысль Нахмана, который открыл, как нехорошо устроена жизнь, и сколь чудесной она могла бы стать, если бы кто-нибудь сумел убедить могущественных людей взяться за это. И Нахман все чаще задумывался о своем положении, томился на службе, и его уже ничто не убеждало, что завтрашний день будет сытым. Кругом он видел одно и то же, в разных подобиях, и этому не виделось конца. Молодежь изнывала, не зная, куда деваться от ударов. Они спорили и говорили со слов стариков о каких-то лучших годах, когда в городе было еще мало народа, и эта молодежь, выросшая в тесноте, разрешала свои муки и в ссорах, и в жалобах, и в действиях. Одни мечтали об эмиграции за океан, другие грозили выйти из еврейства, которое мешало им свободно передвигаться в стране, третьи увлекались сионизмом, незаметно отдавались идее и бредили еврейским царством, часть становилась радикально и заполняла собою кадры нового воинства, – но за всем этим слышались сдавленные, мучительные крики: «хлеба, свободы!»…
Нахман терялся в этом хаосе. И когда вскоре Натана забрали в солдаты, чистый свет, светивший ему, потух. Наступала темная полоса собственного приспособления и осиливания вопросов. Действительная жизнь все тяжелее накладывала свою руку на него, и мечты погасли.
Каждый день приносил что-нибудь новое, нелепое. Чем больше он знакомился со средой, в которой жил, тем глубже язвы неустройства проникали в его сознание, тем страстнее хотелось уйти отсюда. Теперь он уже ясно видел все пружины борьбы за хлеб, и становилось невыносимым оставаться в этой исстрадавшейся среде, где ежедневно для ушей, желавших слушать, неслись вопли раздавленных существований. Ему вспоминалась прежняя жизнь, когда он был свободным поденщиком, и теперь она казалась ему временем гигантов.