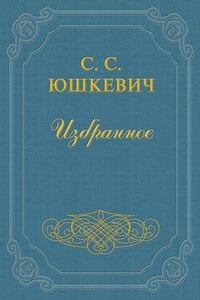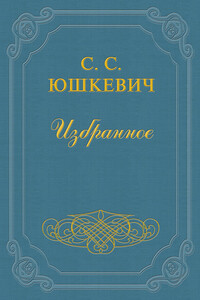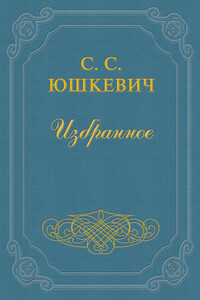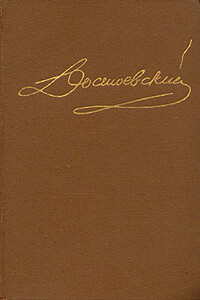В это июльское утро Нахман с Даниэлем пришли в ряды позже обыкновенного. Они разложили товары, и Даниэль, оглядев мрачное лицо Нахмана, недовольно сказал:
– Вы хорошо начинаете день, товарищ. Может быть, вы думаете развеселить покупателей своим лицом и сомневаетесь, – я скажу: палками их лучше не отгонишь. Не огорчайтесь же этой историей, послушайте-ка этого молодца о гребешках. Я должен его перекричать.
Он немедленно раскрыл рот и, будто кто-то вонзил ему нож в бок, завопил:
– Ситец, ситец, кто хочет лучшего ситца, лучшей российской фабрики!
И помедлив, отрывисто выпалил:
– Семь копеек, семь, семь, семь! Подходите, девушки, барышни, хорошенькие дамочки. Кто не слышит? Семь, семь, семь!
– Что вы скажете на меня? – добродушно обратился он к Нахману. – Разве не сказали бы, что я перед уходом съел вкусного теленочка. Засмейтесь, и вам станет весело. Что покупаете, миленькая? Ситец?
Он упал на колени, засуетился возле товара, и будто показывал самый лучший, расшитый золотом шелк, – развернул несколько штук.
– Самый лучший ситец, российской фабрики, – сыпал он, – и если бы у меня была такая красавица-невеста, как вы, я покупал бы ей ситец только у себя. Посмотрите, шелк – не ситец, подавись я первым бриллиантом, который у меня будет. У меня, как я армянин, выступают слезы на глазах, когда я вижу такой товар. Не нравится? Этот ситец не нравится? Я готов вас поцеловать, если вы найдете лучший.
Девушка рассмеялась, а он продолжал сыпать шутками, прибаутками…
Нахман, словно чужой, стоял в стороне и грустным взглядом смотрел на кипевшую улицу.
– Да что это с вами, Нахман? – произнес Даниэль, отпустив покупательницу. – Сегодня ведь пятница, дай Бог так врать всю жизнь. Она отравилась… Но вы сумасшедший, как я немец. Она отравилась, бедная хромушка… Один раз, два раза, три раза на здоровье ей. Вы знаете, товарищ, как нужно жить? Умер – похоронили…
– Но мне ее жаль, – мрачно выговорил Нахман.
– Кому не жаль, – в тон ответил Даниэль, – но ведь хромая с ума сошла, выдумав обвенчаться с шапочником. Старуха Сима права, но дочери нужно было совесть иметь. По правде, один палец этого молодца стоит всей девушки, с ее хромой ногою. Вы пес с ушами, если это вас трогает.
Нахман отвернулся и, насвистывая, стал оглядывать ряд. Мужчины и женщины, все будто сбились в одну кучу, и отсюда казалось, что они ловят людей, душат их, а те откупаются.
Крик стоял веселый, стройный, и чувствовалось, не было такой силы, которая прекратила бы ликование торговли. Все в ряду знали, что отравилась хромая беременная девушка, брошенная своим возлюбленным, – все были знакомы с ней, знали ее несчастную жизнь, но никто не отдал ей и частицы своей души.
Покупатели подходили. Одни осматривали товары, как бы спрашивая себя, что купить; другие брали вещи в руки, клали назад, уходили, возвращались. Какая-то женщина выбрала пару чулок и заплатила, не торгуясь. Нахман оживился. Теперь он выкрикивал цены, подзывал, ловил покупателя. Пыль носилась в воздухе, оседала во рту и мешала говорить.
Когда кто-нибудь переворачивал все, что было в корзине, и равнодушно уходил, ничего не купив, Нахман испытывал желание броситься вдогонку за этим человеком, изругать его, побить… Толпа шла, точно слепая, напирая со всех сторон, десятки рук сразу опускались в корзины, и самое трудное было уследить, чтобы ничего но пропало. Нахман кричал, ссорился, вырывал товар из рук покупателя, и волнение было такое, что никто ничего не понимал… Где-то уже неслись крики торговки, у которой толпа опрокинула корзину.
– Хороший день, чтобы их солнце сожгло, – огрызался Даниэль, – кажется, у меня раскрали четверть товара.
Он кричал отчаянным голосом, густым, металлическим, и глаза у него были налиты кровью. Он вступал в спор, ругался неожиданными забавными словами, и они больше нравились, чем сердили…
Весь ряд стонал от звуков. Торговцы, возбужденные шумом, будто испуганные или увлеченные музыкой своих голосов, корчились в отчетливых движениях, умоляли, проклинали, звали, а толпа, наэлектризованная собственной массою, покупала все, словно обезумела от крика, цветов, форм, дешевизны.