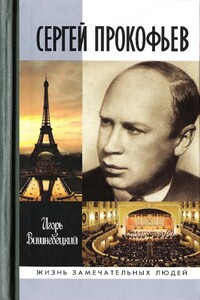Карта Сарматии (уменьшено) из книги
Notitia Orbis Antiqui sive Georgaphia Plenior…
Illustratuit auxit L. Io. Conradus Schwartz, Eloq. à Graec. Ling. P. P. O. in Caliniriano
Lipsiae: Apud Ioh. Friderici Gleditschii, B. Fil., MDCCXXXL.
From the American Geographical Society Library,
University of Wisconsin — Milwaukee Libraries
Следует отметить, что к моменту издания разбираемой нами карты самоидентификация с географически и культурно переходной «Сарматией» давно уже стала общим местом в мироощущении правящего слоя Речи Посполитой — украинской и польской шляхты, составлявшей до 10 % населения страны. Так называемый «сарматизм» (sarmatyzm по-польски) проник и в литературу, и в покрой одежды (скопированный шляхтой у этнически близких сарматам персов), и в идеологию конфедеративного королевства-республики. И хотя собственно «сарматские» земли отошли к моменту издания карты к России, господствующего положения «сарматизма» как идеологии это не пошатнуло. Еще в XV в. Ян Длугош считал «сарматами» как собственно «поляков», так и «русинов». Первое известное мне упоминание Сарматии как культурной концепции в восточнославянской художественной литературе встречается в стихотворной надписи 1632 г. на клейнот (герб) литовско-украинских князей Корибут-Вишневецких. Один из них, Димитрий Иванович, известный также под прозвищем Байда (т. е. «двухпарусная лодка»), ушел с казачьим войском в Азиатскую Сарматию, где прославился в 1550-е годы рядом военных авантюр, был недолгое время и на московской службе; другой, Михаил, в 1669 г. будет избран королем (по-современному президентом) Польской Речи Посполитой. Как это и свойственно барочному сознанию, безымянный киевский стихотворец вписывает историю неспокойной семьи в античный мифологический контекст. В стихах упомянуты «Фортуна», «Юно», «Апольлио», «Харитес», «Марс» (кажется, лишь последний по полному праву; сходное вписывание в античность попробует осуществить с русской и евразийской историей в своих вокально-оркестровых композициях Дукельский), а заключается стихотворение характерным восклицанием: «О значна Савроматов з Вышневецких Слава!»[67]
Но подлинный расцвет сарматская тема обретает в польскоязычной поэзии XVII в. В позднейшей литературе стало хорошим тоном порицать сарматизм за культурную ксенофобию, чванство мифологическим прошлым (как будто есть что-нибудь сильнее мифа!), недооценку плодов цивилизации. Академическая история польской литературы, подготовленная в 1960-е годы московским Институтом славяноведения и балканистики, содержит фразу, которая бы истинно повеселила кн. Н. С. Трубецкого и многих евразийцев, ибо почти слово в слово повторяет позднейшие аргументы против собственно евразийского мироощущения: «Сарматизм возводил в норму изоляцию от передового европейского идеологического и культурного развития, стал оправданием социально-бытового консерватизма» (Л. B. Разумовская, Б. Ф. Стахеев)[68].
Обо всем этом стоит помнить, когда речь пойдет о порубежном по отношению к полюсам «Европы» (чистый Запад) и «Азии» (чистый Восток) самосознании музыкального евразийства.
2. Теория и практика музыкального евразийства у Артура Лурье:
критический взгляд на Запад с Востока
а) Проблема классификации:
композитор-теоретик. Лурье и Стасов
Обращение бывшего скрябинианца и футуриста Артура Лурье в евразийцы имело свою предысторию. Как мы уже упомянули, еще в 1914 г. он вместе с Б. К. Лившицем (тоже уроженцем Украины) и Г. Б. Якуловым составляет манифест «Мы и Запад», прочитанный и опубликованный в связи с приездом в Петербург итальянского футуриста Маринетти. В развернутой форме, как доклад, манифест «Мы и Запад» был оглашен Бенедиктом Лившицем на заседании в зале Шведской церкви в Санкт-Петербурге 11 февраля 1914 г., проходившем под председательством лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ. В докладе, в частности, говорилось об отсутствии в русском искусстве «посредствующих звеньев между материалом и творцом» (т. е. о совпадении субъекта и творимой им художественной формы, об их изоморфности), о строительстве русского искусства «на космических началах» (что, очевидно, следует понимать как неподчиненность человеческому регламенту и стихийность) и, наконец, вполне в духе будущих политических заявлений евразийцев — о том, что, «только осознав в себе восточные истоки, только признав себя азийским, русское искусство вступит в новый фазис и сбросит с себя позорное и нелепое ярмо Европы — Европы, которую мы давно переросли»