Ключевые слова здесь: Божия правда. Она довлеет над преступником, она выявляется в муках его совести, в его внутренних метаниях и колебаниях. Она же звучит в словах следователя Порфирия, которому не за что зацепиться, кроме как за совесть преступника. Медленно, но верно он начинает склонять Раскольникова к признанию, апеллируя к этой самой Божией правде.
Н. Н. Каразин. Иллюстрация к «Преступлению и наказанию».
В беседе со следователем Раскольников излагает суть своей теории. Все люди подразделяются на две категории: обыкновенные и необыкновенные. «Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели». Первые представляют 1893 г. собой материал для зарождения себе подобных: они должны быть послушными и жить по закону. Необыкновенный человек ради благородных целей имеет право «разрешить своей совести перешагнуть… через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует». Что это за препятствия? Через что имеет право перешагнуть необыкновенный человек? «Хотя бы и через труп, через кровь», – отвечает Раскольников. По его теории, «законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники… Замечательно даже, что бо́льшая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы».
Так было всегда, так будет «вплоть до Нового Иерусалима», считает Раскольников. «Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?» – прерывает его следователь. «Верую», – твердо отвечает Раскольников. «И-и-и в Бога веруете?» – «Верую». – «И-и в воскресение Лазаря веруете?» – «Ве-верую» – «Буквально веруете?» – «Буквально».
В чем смысл этого диалога? Дело в том, что, по мнению следователя, вера в Бога, в бессмертие и вечную жизнь, в чудеса Иисуса Христа несовместима с теорией, согласно которой цель оправдывает средства. Это два разных, принципиально противоположных и несовместимых подхода к нравственным ценностям.
Социалистические революционные теории, которыми Достоевский увлекался в молодости и которые озвучивались в кружке петрашевцев, не только допускают это право, но и делают его необходимым условием достижения всеобщего счастья. Социалисты учили, что всеобщее счастье возможно благодаря справедливому перераспределению капитала: надо отнять избытки у богатых и отдать бедным. А отъем капитала невозможен без насильственных действий по отношению к его владельцам.
Л. Ж. Ф. Бонна. Воскрешение Лазаря. 1857 г.
Христианство стоит на принципиально иных позициях. Христианство не признает права человека на достижение каких бы то ни было целей безнравственными и преступными средствами. Более того, Христос вообще не был социальным реформатором и не призывал к изменению общественного строя. Счастье человека Он видел не в материальном богатстве, а в духовной жизни. Царство Божие невозможно построить на земле, но каждый человек может обрести его в собственном сердце. Эти простые истины были, несомненно, известны Раскольникову, а потому Порфирий и спрашивает его прямо о вере в Бога, в чудеса Христа и в «Новый Иерусалим», то есть бессмертие.
Рисунок Ф. М. Достоевского на черновой рукописи романа «Преступление и наказание»
Впрочем, Раскольников не вполне искренен, когда отвечает на вопросы следователя. Свидригайлову он прямо говорит: «Я не верю в будущую жизнь». А Соне Мармеладовой он сказал со злым смехом: «Да, может, и Бога-то совсем нет». Когда она это услышала, ее лицо «вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо». Вопрос о бытии Божием был главным вопросом Достоевского: над ответом на него он бился всю жизнь. Даже после того, как он вновь стал глубоко верующим и воцерковленным человеком, сомнения и колебания посещали его. Вспомним слова из письма Фонвизиной: «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже… до гробовой крышки». В его романах герои постоянно спорят о том, есть ли Бог или нет. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня?» – спрашивает Раскольников. «Что ж бы я без Бога-то была?» – энергично отвечает она вопросом на вопрос. «А тебе Бог что за это делает?» – не унимается Раскольников. Она молчит. Он начинает ходить взад и вперед по комнате и видит лежащую на комоде книгу. «Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете». Та самая книга, которую Достоевский получил в подарок от Фонвизиной.
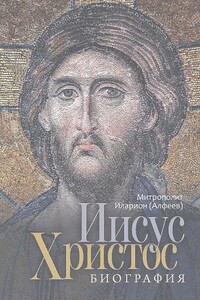


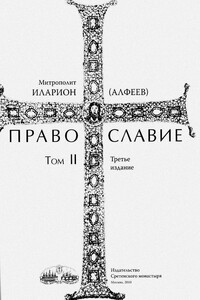
![Отечник проповедника [внутри перекрёстные ссылки гипертекстом!]](/uploads/books/images/9f/9fa3ae96fc4c7dc00a64113f6caf12f3692cdea6.jpg)

