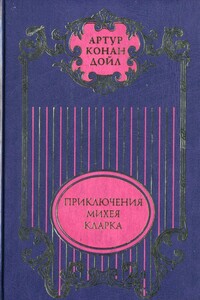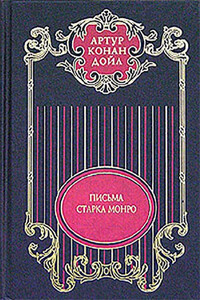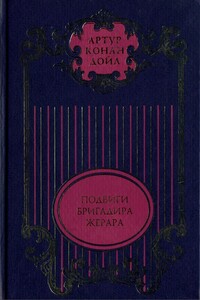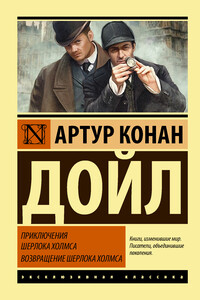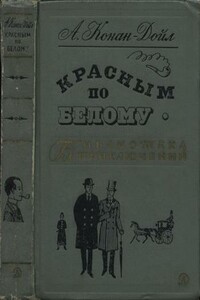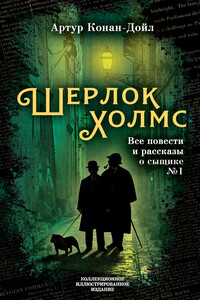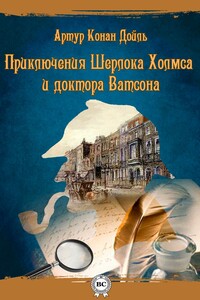Но проблему сознания приходится понимать достаточно широко. Блок замечает, что «заблуждаются те историки и психологи, которые обращают внимание только на «ясное сознание». Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей, для которых в причинах их поступков не было ни малейшей тайны». Это совершенно ошибочное мнение, и мы сильно исказили бы проблему причин в истории, если бы всегда и везде сводили ее к проблеме «осознанных мотивов». Помимо всего прочего, историку нередко приходится сталкиваться с «представлениями, сопротивляющимися всякой логике».
Нельзя сказать, что Конан Дойл в своих романах о людях минувших веков слово в слово следовал предписаниям позднейших историков. Какой-то элемент модернизации у него присутствует. Но очень небольшой. Не больше, чем у его учителя Вальтера Скотта. Этот неоромантик следует основателю романтического исторического романа Вальтеру Скотту, для которого, как и для всех романтиков, был так важен «исторический колорит», иными словами, воспроизведение нравов и обычаев описываемого времени. Здесь играли роль любые, кажущиеся нам сейчас не очень важными, детали тогдашнего быта. Психология людей не то чтобы стушевывалась, но немного отступала на второй план. Да к тому же исторический роман не сразу обрел должную славу. Вальтер Скотт, например, так боялся неуспеха своих первых романов, что выпускал их анонимно. Но с тех пор, конечно, прошло немало времени. Жанр этот укрепился, приобрел славу, и, скажем, «Собор Парижской Богоматери» (1831) Виктора Гюго давно был признанной классикой.
Невозможно было написать исторический роман без точного знания всех деталей тогдашней жизни. А Конан Дойл этим знанием обладал в высшей степени. И его «Белый отряд» ставили в этом отношении почти вровень с романами Вальтера Скотта. Те несколько исторических романистов, которые оказались между ним и Вальтером Скоттом (прежде всего Эдвард Булвер-Литтон, автор — среди прочих своих произведений — «Последних дней Помпеи» (1834) и «Гарольда» (1848), похвастаться этим не могли, хотя очень на этом настаивали. К тому же самого Вальтера Скотта не раз ловили на ошибках, а Конан Дойл оказался здесь необыкновенно добросовестным. Как исторический романист этот писатель был много выше создателя образов Шерлока Холмса и доктора Уотсона. Может быть, поэтому его причисляли чуть ли не к самым верным последователям Вальтера Скотта.
«Белый отряд» так полюбился и читателям, и самому автору, что много лет спустя он решил выпустить «первую часть» этого романа — вернее, описать юность его главного героя, сэра Найджела. Под этим названием роман в 1906 году и предстал перед глазами читателей. Эти два романа появились, можно сказать, «в обратном порядке». Публикация «Сэра Найджела» свидетельствовала о том, что Конан Дойлу хотелось не только возможно подробнее изобразить Средние века, но и лучше их понять. И заодно, конечно, изобразить их с наибольшей полнотой.
«Сэр Найджел» тоже имел успех, хотя и не такой громкий, как «Белый отряд», и Конан Дойл был этим разочарован. Особенно его огорчило, что никто из рецензентов не отметил очень важное для него обстоятельство: он первым из всех романистов, писавших о далеком прошлом своей страны, подробно разработал заявленную еще в «Белом отряде» фигуру английского лучника. Ведь именно этот выходец из английской деревни сыграл решающую роль в победах англичан над французами во время Столетней войны. Английские лучники стреляли с такой невообразимой точностью, что попадали в крошечные щели между доспехами, и раз за разом буквально расстреливали самый цвет французского рыцарства. Но лучник Конан Дойла интересен, конечно, не только меткостью своей стрельбы. Писатель попытался дать в своем втором по счету романе из истории Столетней войны психологически точный портрет подобного человека. Без известной доли идеализации здесь, конечно, не обошлось, но это была общая тенденция английской литературы еще в XVIII веке. Английский йомен (свободный крестьянин, составлявший, среди прочего, ядро войска того времени) противопоставлялся «теперешним развращенным людям» в «Путешествиях Гулливера» (1772—1773) Джонатана Свифта, «Опере Граб-стрита» (1747) Генри Филдинга и многих других произведениях. И если говорить об идеализации, ее здесь все-таки меньше, чем у писателей XVIII века. Конан Дойл как автор исторических романов — писатель не менее трезвый, чем автор рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе.