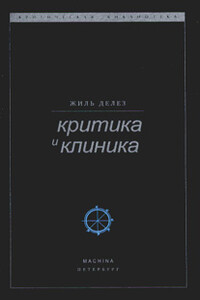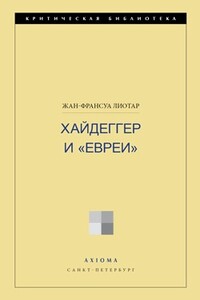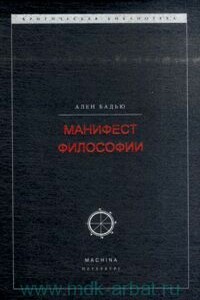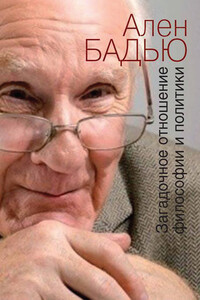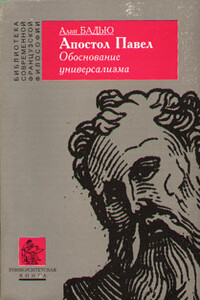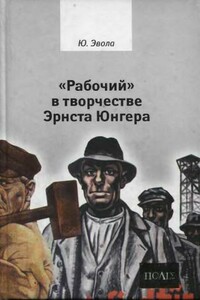Для философа это трудная задача — вырвать имена у того, что проституирует их употребление. Уже Платон с огромным трудом отстаивал слово справедливость от его изворотливого и переменчивого употребления софистами.
Попытаемся все же, несмотря на все вышесказанное, сохранить слово этика, поскольку долгую и почтенную линию составляют и те, кто со времен Аристотеля разумно им пользовались.
1. Бытие, событие, истина, субъект
Если не существует этики «вообще», то дело тут в отсутствии абстрактного Субъекта, который мог бы ею руководствоваться. Имеется всего-навсего то или иное частное животное, приведенное обстоятельствами к тому, чтобы стать субъектом. Это означает, что все, чем оно является, его тело, его способности, оказывается в данный момент востребовано, чтобы себе проложила дорогу одна из истин. Именно тогда от человеческого животного требуется быть бессмертным, каковым он не являлось.
Что же это за «обстоятельства»? Это обстоятельства некоей истины. Но что под этим следует понимать? Ясно, что имеющее место (множественности, бесконечные различия, «объективные ситуации»: например, обычное состояние отношения к другому до любовной встречи) подобные обстоятельства определить не может. В объективности подобного типа животное, как правило устраивается как сможет. Нужно, следовательно предположить, что ведущее к образованию субъекта имеется сверх того или неожиданно случается в ситуациях как то, чего эти ситуации и обычный способ себя в них вести учесть не в состоянии. Скажем, что субъект, который превышает животное (остающееся, однако, его единственным носителем), требует, чтобы произошло нечто, нечто не исчерпывающееся простым вхождением в «то, что имеет место». Это пополнение мы назовем событием[13] и будем отличать множественно-бытие, в котором речь не заходит истине (а только о мнениях), от события, которое принуждает нас решиться на новый способ быть.
Некоторые из таких событий засвидетельствованы во всех подробностях: Французская революция 1792 года, встреча Элоизы и Абеляра, создание Галилеем физики, изобретение Гайдном классического музыкального стиля и т. д. Но наряду с ними есть и другие: Культурная революция в Китае (1965–1967), личная любовная страсть, создание французским математиком Гротендиком теории топосов, изобретение Шенбергом додекафонии… С какого же «решения» ведет тогда начало процесс истины? С решения строить свои отношения с ситуацией с точки зрения событийного пополнения. Назовем такой подход верностью. Быть верным событию означает продвигаться в ситуации, пополненной этим событием, осмысляя (но любая мысль есть практика, испытание) ее «согласно» событию. А это, поскольку событие было вне всех стандартных законов ситуации, вынуждает, разумеется, изобретать новый способ быть и действовать в этой ситуации. Ясно, что под влиянием любовной встречи— и если я хочу быть ей действительно верным — я должен перестроить снизу доверху мой обычный способ «обживать» мою ситуацию. Если я хочу быть верным событию «Культурная революция», я должен во всяком случае осуществлять политику (в частности, по отношению к рабочим) совершенно иным образом, чем предлагает социалистическая и профсоюзная традиция. И точно так же Берг и Веберн, верные музыкальному событию, носящему имя «Шенберг», не могут как ни в чем не бывало следовать по пути декадентского неоромантизма. После текстов Эйнштейна 19 года, если я верен их радикальной новизне, я могу продолжать заниматься физикой в ее классических рамках — и т. д. Событийная верность есть реальный (и мыслительный, и практический) разрыв в том конкретном порядке (политическом, любовном, художественном, научном…) в котором имело место событие.