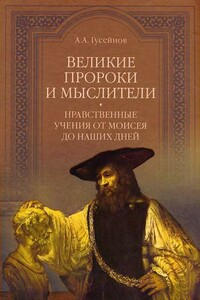1 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 411, 412, 420.
Только я бы сказал так: великий сценический (и - по преимуществу сценический, драматический) гений Шекспира состоял в том, чтобы раскрыть трагедийность рождения романной нравственно-поэтической перипетии человеческого бытия из духа греческой трагедии и средневекового храмового действа. Добавлю лишь, что классические романы XVIII - XIX веков (от Д. Дефо до Л. Н. Толстого) могут быть правильно поняты только в сопряжении с шекспировским актом их рождения, начинания.
Правда, наряду с "Гамлетом" Шекспира и "Дон Кихотом" Сервантеса есть еще одна странная книга, воссоздающая, так сказать, формальную трагедию рождения романа. Это "Тристрам Шенди" Л. Стерна (XVIII век). Но загадочность и величие этой книги - предмет особого разговора.
Как я полагаю, развитая М. М. Бахтиным романная поэтика есть гениальное осмысление именно нововременной культуры. Нововременной (но вовсе не античной или средневековой) формы тождества поэтики и этики. Другое дело, что эта нововременная форма поэтики включает в себя и преобразует собой и античную и средневековую поэтику (так же, как античная и средневековая поэтики преобразуют в себе и собой поэтику нравственности нового времени).
И еще одно. Каждая форма культуры несет в себе определенную форму того мысленного сосредоточения человеческой судьбы, на основе которой оказывается возможным осознать всю свою жизнь как уже завершенную и могущую - именно в своей завершенности и окончательности - быть перерешенной, самодетерминированной. То есть нравственно ответственной, втянутой в трагедии и катарсисы исходной перипетии.
В античности - это точка акме, героической средины жизни, в которую втянуты все прошлое и все будущее и индивида, и человеческого рода и в которой индивид оказывается полностью ответствен за завязки и развязки рока, способен героическим поступком разрешить рок... В средневековье - это момент конца жизни, пусть мысленно предвосхищаемого, момент исповеди, когда я могу окинуть взором всю свою - еще продолжающуюся - жизнь как уже завершаемую. В этом предвосхищении земного конца я целиком ответствен не только за свои земные сроки, но и за предстоящую мне вечность, навсегда предрешенную в моей земной жизни и свободно предрешаемую (!) ей. То есть предполагающую свободу человеческой воли.
В новое время не существует такой привилегированной точки; в идее романа каждая точка жизни, каждый ее период - детство, юность, зрелость, старость, смерть - имеет свою бесконечную ценность, так сказать, излучается в "свою" вечность и в сопряжении дает окончательно значимое, отстраняемое в биографии "тире" (Пушкин рожден в 1799 году, умер в 1837; жизнь поэта заключена и отстранена в вечность в промежутке 1799 - 1837).
В новое время каждый момент земного бытия нравственно значим - в своей неповторимости и включенности в актуальную бесконечность земного срока.
Так вот, существенно, что эти нравственные перипетии - сосредоточенные и обращенные на меня в поэтике трагедии, храма, романа - повседневно существуют в рассеянной, но жаждущей сосредоточения форме в жизни каждого человека данной исторической эпохи. В реальных напряжениях его предметной, домашней, социальной деятельности и общения. Однако осознание этих вседневных конфликтов осуществляется и "доводится" до ума, до поэтически выраженной нравственности как раз в формах трагедии, храма, романа.
Подчеркну, социальные и классовые различия и антагонизмы этически осознаются и по-разному преломляются также только в этих всеобщих для данной культуры нравственных перипетиях. Так, трагедия Гамлета - это трагедия нравственности (если и когда она осознается) и работника, и господина, и пролетария, и буржуа нового времени при всем различии и даже противоположности ее конкретного наполнения, жизненной актуализации и меры осознания этими социально разнородными носителями нравственных перипетий.
В своем очерке я исходил из предположения, что намеченные здесь нравственные перипетии есть исторические слои, "годовые кольца" современной нравственности; духовного мира человека 80 - 90-х годов XX века. И только в этом смысле шла речь о том, "что есть нравственность". Замысел состоял в том, чтобы, обращаясь к истории, обособленно преувеличить и замедленно фиксировать - под микроскопом философской рефлексии культурно-историческую содержательность и диалогичность наших сегодняшних этических коллизий.