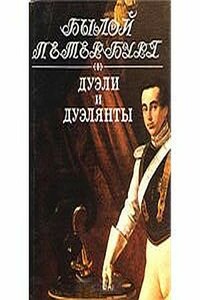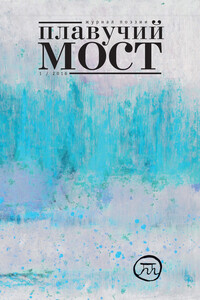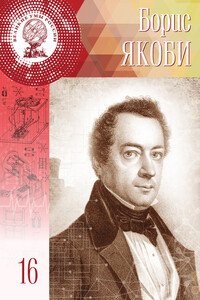«Я приезжаю в Вильну, где расположена моя рота. Людей множество, город приятный; отовсюду стекаются убегавшие прежнего правления насладиться кротким царствованием Александра 1-го; все благословляют имя его и любви к нему нет пределов! Весело идет жизнь моя, служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление; все страсти покорены ей!»
Это был опасный период. Обстоятельства заставляли его становиться обыкновенным человеком, гасили его «непомерное честолюбие», ибо совершенно непонятно было, каким же образом может оно осуществиться. Его заявление: «служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление» — правдоподобно только во второй половине фразы. Да, служил он с рвением. Ему нравилось служить. Но служба влекла его не сама по себе, а как достижение цели далеко не заурядной. Он понимал, что может удовлетворить свое честолюбие только на военном поприще.
Но как могло «льстить честолюбию» — его честолюбию! — положение командира конноартиллерийской роты, «завалявшегося в полуполковниках»?
Денис Давыдов, благоговевший перед Ермоловым, писал: «Алексей Петрович, не могущий не сознавать в себе способностей, был всегда одарен большим честолюбием».
Воспоминания являются — даже при фактологической правдивости — в большей степени литературой, чем исповедью.
«Весело идет жизнь моя…»
Чтобы составить себе ясное представление о жизни и настроении Ермолова в этот период, надо снова обратиться к его письмам Казадаеву.
Писем виленского периода довольно много, и они существенно контрастны по отношению к мемуарам, и каждое из них наполнено смыслом и выразительно очерчивает внутренний облик нового Ермолова — Ермолова после жизненной катастрофы. Но мы ограничимся несколькими фрагментами[23].
«Итак, я теперь опять имею пустую выгоду быть первым подполковником. Палкевич вышел в корпус Киевский. Ей богу, больно столько времени быть в одном чине и служба, имеющая для меня все приятности, иногда их теряет в виду моем. Но что делать, любезнейший друг, боюсь только, чтобы ты меня не упрекнул малодушием. Но кто, служа, не ищет протесниться сквозь кучу обогнавших, и если судьба доставит какой-нибудь случай по нашей службе, употреби его в пользу человека, кроме твоей подпоры никого не имеющего, и отправь меня куда-нибудь. Не думай, чтобы это были мои вымыслы. Нет, брат мой сидит подле меня и велит мне писать, чтобы ты выискал для меня подвиг. <…> 9-го февраля».
Это 1802 год. Ермолов меньше года в Вильно и уже томится своей службой.
Во-первых, ему давно уже положен по выслуге чин полковника. Но и когда он оказывается первым, то есть старшим подполковником в батальоне, он не надеется на производство. Для офицера застревание в одном чине чревато крушением карьеры. На него смотрели как на неспособного — каков бы ни был он на самом деле. И нужна была чья-то сильная рука, чтобы вытолкнуть его из этой мертвой заводи.
Во-вторых, такое ермоловское — «отправь меня куда-нибудь». Он слишком хорошо помнит первые годы своей службы: Молдавия, Польша, Италия, Каспий… Его натура жаждет движения не только по службе, но и в пространстве. Ему необходима динамика.
Каховский, выпущенный из крепости и живущий вместе с младшим братом, лучше чем кто бы то ни было понимает его натуру и те обстоятельства, при которых молодой честолюбец только и может быть собой в полной мере. «Чтобы ты выискал для меня подвиг». Слово «подвиг» подчеркнуто.
И старший, и младший знают, что в сложившейся ситуации только подвиг — деяние из ряда вон выходящее — может вырвать из служебной рутины, компенсировать потерянные годы, дать надежду на реализацию мечты.
Говоря сегодняшним языком, это стремление в какую-нибудь «горячую точку», а не просто перевод в другую губернию.
Он остро осознавал, насколько судьба его, его карьера в том ее виде, в каком она только и была для него приемлема, зависят от поддержки Казадаева, правителя дел инспектора артиллерии, и стоящего за ним Корсакова. И мысль о том, что Александр Васильевич сменит место службы, ужасала его.
«Любезнейший друг Александр Васильевич!
Я уже проклинаю твою отставку, с тех пор как ты получил ее, то уже ко мне не пишешь и как будто с нею получил вместе право забыть меня. <…> Новиков мне пишет, что ты старался о переводе моем в казаки, как жаль, что не удалось, а теперь совсем было бы не худо в смутных моих обстоятельствах.