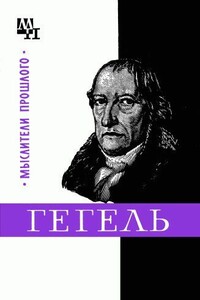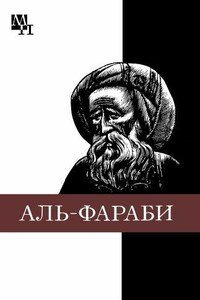Этика, или так называемая практическая философия, непосредственно связана с физикой и каноникой. В эпикурейской физике и канонике человек выступает в качестве лишь познающего, но не преобразующего мир существа. Такое понимание человека составляет теоретическое обоснование этических воззрений Эпикура — важнейшей составной части его философской системы.
Диалектическая связь между теоретической и практической частями философии Эпикура объясняется особенностями того исторического периода, в который протекала его жизнь. Именно в этот период греческой истории не-прекращавшиеся междоусобные войны, неустойчивость общественной и политической жизни породили в господствующих слоях населения эллинистических государств стремление найти способ жить без тревог и волнений, выдвинули на первый план этику, которая должна была удовлетворить чаяния этих слоев. Перед философией ставилась задача указать путь к счастливой жизни, в силу чего философия становилась прежде всего житейской мудростью.
В этике Эпикура наиболее ярко проявляется классовый характер его философии. Все его нравственные наставления и поучения обращены к свободным гражданам рабовладельческого общества — рабовладельцам, к которым принадлежал и он сам. Они направлены на удовлетворение духовных потребностей прежде всего этой имущей, господствующей верхушки.
В то же время Эпикур был выразителем интересов относительно прогрессивных средних слоев класса рабовладельцев, выступавших в защиту рабовладельческой демократии. В своем этическом учении он дает ответ на животрепещущие вопросы, занимавшие умы людей в ту бурную эпоху социальных потрясений.
Жизнеутверждающая этика Эпикура и его последователей носила ярко выраженный атеистический характер и была направлена против мистицизма и аскетизма стоиков, скептиков, неоплатоников и других идеалистических школ эпохи эллинизма. Обращенная к реальной жизни, к интересам посюстороннего мира, она противостояла проповедям о загробном существовании и потусторонних мирах.
Вместе с тем Эпикур, будучи представителем класса рабовладельцев, рассматривал человека в отрыве от общественно преобразующей, производственной деятельности и взаимоотношений с другими членами общества, что наложило свой отпечаток и на этические воззрения Эпикура и определило их индивидуалистический и созерцательный характер. Замкнутый в самом себе, в своем внутреннем мирке индивид в центре внимания эпикурейской этики.
В конечном счете не только этика, но и вся философская система Эпикура была направлена на удовлетворение духовных потребностей индивидов, обеспечение им счастливой, ничем не омрачаемой, безмятежной жизни. Философия, с его точки зрения, должна была просвещать людей, умножать их знания об окружающем мире и тем самым способствовать их счастью.
И действительно, философия Эпикура исторически немало способствовала великому делу просвещения.
Эпикур проповедует своеобразное, отвечавшее жизненным идеалам и стремлениям его класса понимание сущности счастливой жизни. Счастье он усматривал в удовольствии (ηδονη), и в этом заключалось основное положение его этического учения.
В «Письме к Менекею» он писал: «Да, мы имеем надобность в удовольствии тогда, когда страдаем от отсутствия удовольствия; а когда не страдаем, то уже не нуждаемся в удовольствии» (15, 128). Отсюда он делает вывод: «Поэтому-то мы и называем удовольствие началом и концом [альфой и омегой] счастливой жизни. Его мы познали как первое благо, прирожденное нам; с него начинаем мы всякий выбор и избегание; к нему возвращаемся мы, судя внутренним чувством, как мерилом, о всяком благе» (15, 128–129).