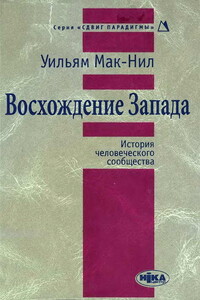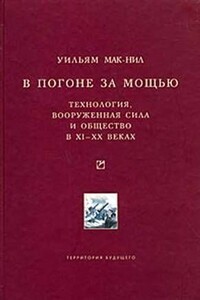Изначальный эффект был взрывным: за один сезон была заражена территория, сопоставимая по размерам с Западной Европой. В первый год смертность среди заболевших миксоматозом кроликов составила 99,8%. Однако в последующий год смертность снизилась всего до 90%, а спустя семь лет смертность среди инфицированных кроликов находилась на уровне лишь 25%. Очевидно, что среди кроликов
- 99 -
произошла жесткая и быстрая селекция — равно как и среди вирусных штаммов. С каждым последующим годом образцы вируса, взятые у диких кроликов, становились заметно менее вирулентными. Несмотря на это обстоятельство, популяция кроликов в Австралии не восстановилась до прежнего уровня, и этого, вероятно, не произойдет долгое время, а возможно, и никогда. В 1965 году в Австралии обитала только пятая часть кроликов в сравнении с их численностью до удара миксоматоза>31.
До 1950 года миксоматоз был прочно устоявшимся заболеванием кроликов в Бразилии. Среди популяции диких кроликов в этой стране данный вирус вызывал лишь мягкие симптомы и демонстрировал сравнительно стабильную модель эндемического проявления. Поэтому можно допустить, что при переносе болезни от бразильских кроликов к австралийским предполагалась меньшая адаптация, чем та, что требовалась для какого-либо паразита при его перемещении к Homo sapiens от некоторых иных видов-носителей. Но в действительности это не так, поскольку, несмотря на общее видовое название, кролики американского континента имели иное видовое происхождение, нежели кролики Европы и Австралии. Соответственно передача вируса к новому носителю, происходившая в 1950 году под присмотром специалистов, напоминала гипотетическую модель, в рамках которой значимые человеческие заболевания некогда высвобождались от какого-либо вида носителей-животных и начинали заражать человечество.
Вне зависимости от того, начинается ли какая-либо новая болезнь столь же летально, как это было с миксоматозом, процесс взаимного приспособления носителя и паразита принципиально тот же самый. Стабильная новая
---------
>31 Frank Fenner and F. N. Ratcliffe, Myxomatosis (Cambridge, 1965), pp. 251, 286 и далее. Миксоматоз также был внедрен во Франции и Англии в 1950-х годах, дав радикальные и при этом несколько отличавшиеся результаты, что главным образом объяснялось различными насекомыми-переносчиками, которые распространяли эту инфекцию.
- 100 -
модель заболевания может возникнуть лишь в том случае, когда обеим сторонам удается пережить их первоначальную встречу и при помощи подходящих биологических и культурных>32 приспособлений прийти к взаимно переносимой адаптации. Во всех подобных процессах адаптации бактерии и вирусы обладают преимуществом в виде гораздо более короткого времени между их поколениями. Как следствие, генетические мутации, которые гарантированно способствуют перемещению болезнетворного организма от носителя к носителю, способны разворачиваться гораздо быстрее, чем какие-либо сопоставимые изменения человеческого генетического наследия, или быстрее, чем могут произойти какие-либо телесные изменения. Действительно, как мы увидим в одной из дальнейших глав, исторический опыт последующих столетий предполагает, что человеческим популяциям требуется примерно 120-150 лет, чтобы стабилизировать свою реакцию на радикальные новые инфекции>33.
Для сравнения низшая точка численности популяции кроликов в Австралии была достигнута в 1953 году, через три года после исходной вспышки миксоматоза. Учитывая то, что промежуток между поколениями кроликов краток — для Австралии он составляет от шести до десяти месяцев между рождением и вступлением в детородный возраст>34,— этот трехлетний промежуток эквивалентен 90-150 годам по человеческой шкале, если брать за цикл одного человеческого поколения 25 лет. Иными словами, людям и кроликам могло потребоваться сопоставимое время в пересчете на поколения для адаптации к изначально смертельному новому заболеванию.
---------
>32 Аналогии присутствуют даже здесь. Внимательные наблюдатели сообщали, что английские кролики реагировали на миксоматоз, проводя большую часть времени на поверхности земли и меньшую — в норах. Fenner and Ratcliffe, op. cit., p. 346.