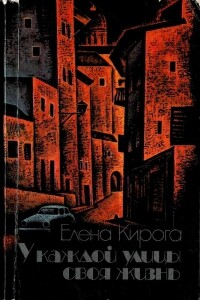Утром Дмитрий, поняв, что надо что-то делать, заставить происходящее работать на себя, вел записи и пил ледяную водку из холодильника. В эти дни он начал повесть, куда, невольно стремясь отвести нанесенный Олей удар, поначалу заносил все, что чувствовал, и за которую потом, отрезвев и выкинув половину, взялся уже серьезно.
Олю он старался не беспокоить, чтобы окончательно не испортить все своей назойливостью. Но несколько раз он не выдерживал и звонил. Оля говорила с ним так, будто ничего не изменилось, на вопрос, что же происходит, отвечала, что сама не знает, а на все предложения встретиться — что у нее болеет мама и очень много работы. Она намекала, что этим ее заботы не ограничиваются, но от любой помощи отказывалась и поворачивала дело так, что пострадавшим во всей этой истории оказывался не Дмитрий, а она, жестоко разочарованная непониманием ее положения. Однажды в трубке раздалось ледяное "Алло" Элеоноры Никодимовны. Поздоровавшись безличным баском, он попросил Олю, и услышав, что ее нет дома, повесил трубку, поймав себя на постыдном порыве судорожного расположения к этой неизвестно за что ненавистной Элеоноре Никодимовне, на желании поговорить с ней по душам, "обсудить положение" и попросить "повлиять на Олю".
Был день, когда его страдание достигло предела. Было жарко, оглушительно стучало сердце, раскалывалась голова и хотелось выстрелить в эту постылую голову из тозовки. Он сел за стол и на едином порыве докончил повесть, условно назвав ее "Девочка и осень".
4
Героем повести был писатель — основательный, обеспеченный и известный человек, поживший и повидавший, в прошлом женатый и имеющий от этого брака взрослых дочерей, сумевший сохранить хорошие отношения с бывшей женой, человек, живший устроенной и полнокровной жизнью, до тех пор, пока девушка, которая ему, казалось, и не особо была нужна, в один прекрасный день не начала его целенаправленно бросать без каких-либо объяснений. Первые две трети повести были посвящены подробному описанию их отношений, точнее ощущений героем этих отношений, эволюция которых состояла в том, что нарастание его страсти было прямо пропорционально угасанию ее благосклонности и привело к тому, что жизнь для него стала физически невыносима.
Все пошатнулось в жизни пятидесятилетнего Николая Евгеньевича, когда оказалось, что он, дряхлеющий человек со вздутыми венами на ногах, всем своим существом зависит от здоровой, красивой девчонки, только входящей во вкус своего обаяния. С трудом заснув после увеличенной дозы снотворного, он просыпается ранним утром, несколько секунд лежит неподвижно и в образовавшийся зазор между сном и явью веет нехорошей тишиной.
Никакие доводы не работают, а самый главный, что происходящее — наказание за его собственные грехи перед прежними женщинами, действует, как на оплошавшего ребенка слова "ты сам же и виноват", то есть, только сердят.
Единственное, что он ясно чувствует — это свой возраст. Раньше Николай Евгеньевич думал, что есть молодость — когда все впереди и есть старость — когда все позади, а в середине существует некая ровная и плодотворная зрелость. Он долго ждал этой ровной неподвижной зрелости, а однажды утром проснулся с чувством, что самое главное и лучшее позади, и с этого момента безо всякого перехода от молодости и началась старость. Органы его чувств при этом продолжали так же ярко и живо воспринимать действительность, как и тридцать лет назад, и это вносило в его жизнь новое нелепое и щемящее противоречие. Старости он ждал совсем другой — тихой и мудрой, а оказалось, что вместо нее грядет просто постепенное разрушение организма на фоне исправно работающих чувств и заслуженной душевной усталости. Потом он встретил Таню. Потом она ушла и унесла с собой все, кроме страха перед этой горькой перспективой.
Несмотря на то, что Николай Евгеньевич понимал и чувствовал все то, что понимает и чувствует русский человек с душой и сердцем, и даже больше, в своих книгах он не мог создать по-настоящему убедительного мира, который коснувшись читателя, навсегда бы остался в его душе. Все его справедливые мысли о любви, природе, России оставались справедливыми мыслями умного и чувствующего человека, за которыми не ощущалось ни силы вымысла, ни судьбы. Он очень знал и любил классиков, но не продолжал их дорогу, как ему казалось, а все бродил какими-то внутренними тропками их территорий. У него были много лет назад прекрасные, в духе раннего Чехова, рассказы, но дальше все как-то застопорилось, дойдя до определенного уровня, где уже нельзя говорить о таланте или не таланте, а скорее есть некий объем возможностей между этими двумя понятиями и все зависит от того, как использовать их и какую поставить себе цель, и где есть состоящий из ряда последовательных развилок путь, требующих кроме работоспособности еще и глубинной жизненной одержимости. Первые рассказы Николая Евгеньевича имели большой успех, свое честолюбие он удовлетворил еще в молодости и с первого раза. Дальше все покатилось по в меру благополучной дороге профессионального литераторства, а внутренней тяги к истине в нем оказалось недостаточно, чтобы на фоне той общественной жизни, которую он вел, вытянуть еще громадную душевную работу, необходимую для роста, как художника и мыслителя. Замечательно, что в смысле враждебности творчеству эта общественная деятельность напоминала Дмитриеву охоту.