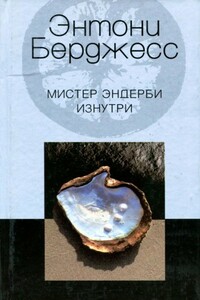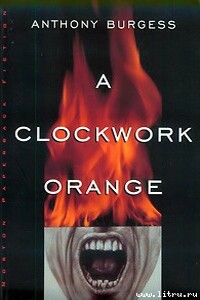— Разумеется, мой милый Эндерби. — Роуклифф прикончил бренди, попробовал кашлянуть, но не смог. — Лучше. Хотя чистый паллиатив. Так вот из-за чего вы взбесились, да? Мой мозг одурманен, то есть то, от него оставшееся, что еще не пожрал вторгшийся ангел. Не пойму, зачем вам вообще понадобилось вот так вот одеваться, чтобы мне сообщить, будто я метафорически разжирел на чем-то там вашем. — Его вдруг одолела сонливость, потом он встряхнулся. — Закрыл уже чертову дверь, Мануэль? — попытался он крикнуть.
— Pronto, pronto[130].
— Довольно долгая история. — Эндерби не видел возможности избежать извинений. — Понимаете, я прячусь от полиции, Интерпола и прочее. — Он сел на стул из составленной груды.
— Устраивайтесь поудобнее, милый мой старина Эндерби. Выпейте. Вид у вас тощий, голодный. На кухне спит Антонио, бывший весьма сносный мастер быстрой готовки. Мы его кликнем, разбудим, и он, распевая от всего своего не слишком заслуживающего доверия андалузского сердца, свалит вас с ног собственным вариантом жаркого ассорти. — Он попробовал кашлянуть горлом, но ничего не вышло. — Лучше. Мне лучше. Должно быть, в вашем присутствии, дорогой старина Эндерби.
— Убийство, — объявил Эндерби. — Разыскивают за убийство. Меня, я имею в виду. — И не смог удержаться от минимальной самодовольной ухмылки. Вулвортские часы громко тикали. Солнце, как бы в последнем отчаянном выдохе, озарило огнем, хрусталем полки с бутылками за стойкой бара, а потом зашло. Нависшие тучи сдвинулись ниже. Купальщики бежали к солярию Роуклиффа за ключами и одеждой. Мануэль там кричал им, болтая ключами:
— Cerrado. Fermé. Geschlossen[131]. Закрыто проклятое заведение.
— Как будто что-нибудь из покойного дорогого бедняги Тома Элиота, — сказал Роуклифф. — Ему всегда нравился тот мой стишок. Ну, вы помните, который во всех антологиях. Теперь дождь прибьет нашу пыль. Не найти больше убежища в колоннаде и солнца в Хофгартене. — Казалось, он готовился распустить слюни.
— Убийство, — твердил Эндерби, — вот о чем мы говорили. Я хочу сказать, что меня разыскивают за убийство.
— Будь чист перед жизнью и смертью, — изрек Роуклифф, нашаривая грязный носовой платок в многочисленных наружных пиджачных карманах. Поднес его обеими руками к лицу, слабо откашлялся, продемонстрировал Эндерби сгусток крови. — Лучше вверх, чем вниз, наружу, чем внутрь. Итак, Эндерби, — продолжал он, заворачивая, как рубин, и старательно сберегая сгусток, — вы предпочли фантазийную жизнь. Спасительная видимость. Не скажу, чтобы я вас за это винил. Реальный мир абсолютно ужасен, когда дар уходит. Я-то знаю, помоги мне Бог.
— Он ушел и вернулся. Дар, я имею в виду. А потом, — сказал Эндерби, — в тюрьме буду писать. — Положил ногу на ногу, почти полностью демонстрируя европейские брюки, и почему-то светло улыбнулся Роуклиффу. — Смертной казни больше нет, — добавил он.
Роуклифф трясся и трясся. От злости, с изумлением понял Эндерби.
— Не говорите мне о смертной казни, черт побери, — трясся Роуклифф. — Природа сама наказывает. Я умираю, Эндерби, умираю, а вы тут болтаете про писание стихов в тюрьме. Я возражаю не столько против смерти, сколько против распроклятого неприличия. Нижнее белье сплошь в дерьме, черт возьми, и записано насмерть, воняет. Вонь, Эндерби. Чуете дурной запах?
— Я привык к дурным запахам, — извинился Эндерби, — при таком образе жизни. Вы пахнете ничуть не иначе, — принюхался он, — чем тогда в Риме. Проклятый предатель, — с жаром добавил он. — Украли мою поэму, черт возьми, и распяли ее.
— Да да да да. — Роуклифф как бы снова устал. — Наверно, во мне всегда шел какой-то процесс разложения. Ну, теперь уж недолго. Не стану отравлять ни землю, ни воздух. Пусть меня примет море. Море, Эндерби, thalassa[132], la belle mer. Провидение, в каком бы обличье оно ни было, прислало вас, в каком бы обличье вы ни были. Ведь как ни милы часто мальчики в мои весьма вонючие, однако, истинные времена бабьего лета, им нельзя полностью доверять. С моей кончиной скучающие фагоциты просто скушают — ням-ням-ням — кусок органической слизи, Эндерби, посмертное воспоминание о моей просьбе не подвигнет их на ее исполнение. О нет, святители небесные. Но это с полной уверенностью можно поручить вам, собрату-англичанину, собрату-поэту. — Слышалось, как парни на кухне от души чмокают средиземноморскими губами, реже доносилось более изощренное звяканье вилки о тарелку, магрибская беседа, прорвавшийся сквозь чавканье смех. Вообще нельзя доверять. Уже падал дождь, и Роуклифф, как бы довольный свершившимся запуском сложного экспериментального процесса, кивнул. Эндерби вдруг осознал, кто это ему кивает: Роуклифф.