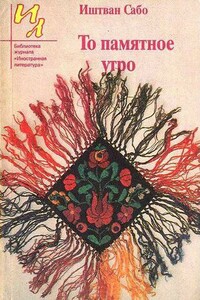Наслушавшись историй о моем даре предвидения, Алекс де Йонг из Оксфорда даже сочинил анекдот с таким сюжетом. Эмигрант-романист убеждается в том, что все написанное им — сбывается. Пораженный своим даром, этот антисоветчик бросает перо и, как Гоголь, начинает проповедовать и заканчивает тем, что дает обет молчания. К нему является визитер, на вид литературный поклонник. Умоляет его снова взяться за перо. Но, бывший романист-эмигрант неумолим. Испробовав все доступные способы переубеждения, этот «лит. поклонник», наконец, признается: он, в действительности, начальник департамента КГБ, занимающегося планированием провокаций. Работа его отдела целиком и полностью зависит от фантазии этого эмигрантского автора — они претворяют его эмигрантские фантасмагории о Советском Союзе в жизнь. Как только автор замолчал, отдел остался без руководящих указаний. «Пишите!» умоляет гебистский товарищ эмигрантского автора «пишите, а мы будем воплощать ваши слова в жизнь!»
2
Вышеописанный сюжет — не что иное, как переиначивание на эмигрантский лад одного из пророческих произведений 60-х годов: повести Абрама Терца «Гололедица». Герой повести не только видит всё и вся «насквозь», он еще способен предсказывать будущее и, что не менее важно, прошлое человечества вообще и отдельных советских граждан в частности. Герой, естественно, довольно быстро оказывается на Лубянке, потому что узурпировал прерогативу Партии и Правительства на знание сталинского прошлого и ленинского будущего. Но арестованный, герой как бы возвращен в лоно советской системы — его используют в качестве политконсультанта — прорицателя — в выработке советской международной стратегии. Героя же терзает лишь один образ из будущего: ему мерещится, что его любимую убьет сосулькой, упавшей с крыши московского дома. Когда сосулька убивает-таки любимую женщину, герой тут же лишается дара предвидения. В одном образе соединяются тема ареста, личная вина за соучастие в преступлении и дар предвидения как наказание. Синявский-Терц, как всякий романист, предвидел в первую очередь свое собственное будущее. Слова и идеи, носящие навязчивый характер, так или иначе сбываются, особенно в советской ситуации, где между словом и делом всегда существовала весьма прямая связь в виде доноса.
Согласно средневековым руководствам по экзорцизму — изгнанию бесов, — дар предвидения, наряду с левитацией и глоссолалией — способностью изъясняться на неведомых языках, — есть один из главных признаков одержимости бесовской силой. Признание одержимого, по крайней мере у католиков, спасает его душу, после чего тело сжигают на костре, чтобы освобожденная душа попала в рай. Если одержимый не признается публично в своем союзе с дьяволом, его душа будет гореть в аду. Душа одержимого бесами будет гореть в аду так или иначе, когда речь идет о протестантской концепции души с ее доктриной «предопределенности». В этом смысле сталинские следователи, спекулятивно говоря, были ближе к протестантам-фанатикам. Поскольку души как таковой для сталинистов нет, нет надежды и на спасение души, нет спасения для врагов народа. Враг должен быть уничтожен. Для этого нужно довести его не только до физической, но и, парадоксально, до моральной смерти — ведь душа и есть рациональные моральные обязательства перед советским обществом. Признание в одержимости антисоветскими бесами вымогалось у обвиняемого не с целью соблюдения законности, а для морального уничтожения: если подследственный признавался в одном абсурдном обвинении, ему навязывались другие, не менее абсурдные. Вера в материальность души и заставляла сталинских следователей уничтожать человека морально, доводить его душу до «физической» смерти — как материальный объект, человеческую душу необходимо стереть в порошок: иначе — очухается, «воскреснет».
Суд над Синявским происходил в эпоху восстановления законности и ленинских норм партийной жизни. Были судьи, народные заседатели, адвокаты, свидетели с обеих сторон. И тем не менее обвинение, по сути, носило все тот же «теологический» характер: автора Синявского-Терца обвиняли в «антисоветских намерениях». Синявский в своей речи подсудимого решил отделить себя от Терца: если герой и произносит антисоветские речи — впрочем, еще нужно доказать, что они антисоветские, — автор за это не несет ответственности. Более того, Синявский-человек не несет никакой ответственности за Терца-рассказчика. С точки зрения законодательной, с точки зрения самой свободной в мире советской конституции, прав, конечно, Синявский, а суд не прав. Но именно Синявский-Терц приравнял в своем эссе о соцреализме сталинскую Россию к России «державинской» XVIII века, а соцреалистическое мышление назвал теологическим. С точки зрения советской теологии, с точки зрения «реального социализма» и «социалистического реализма», суд, конечно же, справедливо видел и в Синявском, и в Терце антисоветчиков.