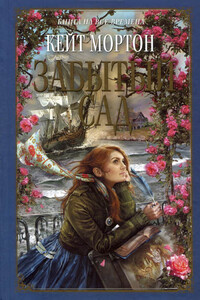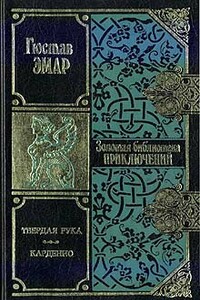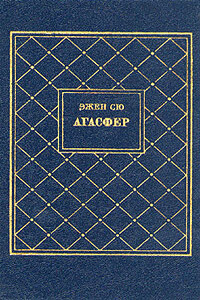— Да, выслушал и пообещал спасти. Я все равно не стану жить без тебя!
— Елена… — Он вздохнул. — Я не заслуживаю такой верности. Я не стою тебя.
— Глупости! Что за глупости ты говоришь! Я предназначалась тебе от начала времен. Если бы твой корабль задержался хоть на день — я бы умерла!
— Возьми меня за руку, — попросил он.
Я взяла то, что некогда было рукой Париса. «О боги! — снова взмолилась я. — Афродита! Сделай же ты хоть что-нибудь!»
— Да, любимый, я буду держать тебя за руку, пока ты не выздоровеешь, — прошептала я.
— Как темно. Впереди глубокая пропасть. Я падаю в нее, — бормотал он.
— Нет, любимый, ты лежишь на своей постели. Все хорошо…
Я не успела договорить — он умер. Не оставив мне последнего слова на память, не попрощавшись — сорвался в глубокую пропасть, которая отверзлась перед ним.
Парис умер. Я вдова. Пока я не понимала значения слова «вдова» — все казалось лишенным значения по сравнению с тем, что Парис умер, — но скоро я пойму.
Я закрыла ему глаза. Сколько раз я целовала эти глаза!
Обернувшись к слуге, я сказала:
— Царевич Парис умер. Его дух покинул нас. Подготовь его тело к погребению.
Не в силах больше оставаться здесь, я вышла вон.
Я хотела остаться одна и пошла в комнатку, где спали мои служанки. Она оказалось пуста, и я упала на тюфяк. Слез не было. Ничего не было, только зияющая пустота. Парис умер. Мир потерял смысл для меня.
Я сказала правду Зевсу. Я не хочу жить. Моя жизнь закончилась с последним вздохом Париса. Он не сказал мне на прощание ничего, прошептал только, что падает в пропасть, и все.
Но ведь он не знал, что это будут его последние слова. Разве нам дано это знать? Пока человек здоров и полон сил, он воображает, как, лежа на смертном одре, произнесет исполненные нетленной мудрости последние слова, которые останутся в наследство родственникам подобно бесценному сокровищу. Но в действительности редко кому удается произнести эти слова. Погибает ли человек скоропостижно на поле боя, умирает ли после долгой болезни в своей постели, ему бывает не до красивых слов. Дыхание отлетает внезапно, и невысказанные слова умирают вместе с человеком, а близкие остаются перебирать воспоминания и гадать, что умерший хотел им сказать.
Я чувствовала горе, но не его границы. Горе казалось безграничным. Я заставила себя подняться с тюфяка и, ничего не видя перед собой, пошла к Андромахе. Лишь она могла разделить мое горе.
Она ждала меня, сидя у ткацкого станка, но челнок лежал рядом на стуле. Завидев меня, она поднялась и протянула навстречу мне руки. Я упала в ее объятия.
— Парис ушел к Гектору, — сказала я.
— Теперь они обнимают друг друга, как мы. Если мы постараемся, сможем увидеть их, — сказала она и погладила меня по голове. — Сестра моя по скорби.
Похороны Париса. Высокая поленница. Парис лежит наверху, закутанный в драгоценные ткани, которые должны скрыть, как изуродовала его смерть. Плакальщицы и плакальщики. У погребального костра стоят отец и мать. Оставшиеся в живых братья выстроились сбоку. Кажется, все троянцы до единого пришли сюда, на южный склон, где проводятся церемонии погребения.
Но здесь уже состоялось столько погребений, что слезы высохли. Троил, Гектор, простые воины. На Париса у троянцев не хватило слез. И не могли они избавиться от мысли, что Парис и был причиной всех этих смертей: если бы не он, Троя жила бы и процветала.
Наверное, они были правы. Я предпочла бы оказаться на месте Париса, но неумолимый Зевс не позволил.
От имени братьев речь держал Деифоб. Он был краток — похвалил Париса, обращаясь к богам. Приам сказал, что лучше бы ему досталась стрела, настигшая Париса. Гекуба рыдала.
Подожгли поленницу. Животных в жертву не приносили — ни лошадей, ни овец, ни собак. Парису это пришлось бы не по душе, и я настояла. Языки пламени взметнулись, лизнули Париса. Я вздрогнула, представив, какую боль причиняет ему огонь. «Он не чувствует больше боли», — убеждала я себя, но сама не верила этому. Боль — это то, что мы обречены испытывать всегда, даже после смерти. Огонь охватил его, я отвернулась и пошла прочь, не в силах смотреть на это. Но запах догнал меня, запах, который свидетельствовал, что огонь пожирает не дрова, а другую пищу.