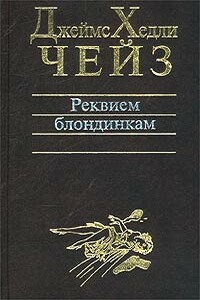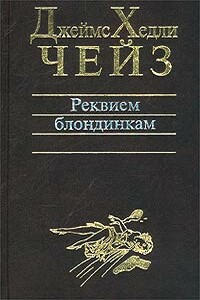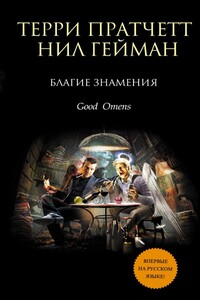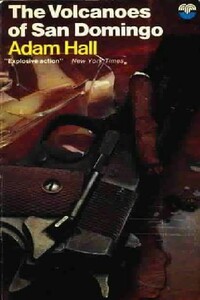Почтительно приблизился.
— Судья Уоттс передал мне ваш вызов.
Он вскинул голову, отправляя в рот последний кусочек семги. Поднял указательный палец, пожевал, проглотил:
— Эмми Холкрофтс пришла несколько минут назад. Она крайне взволнована из-за племянницы и хочет поговорить немедленно. Я попросил ее подождать в библиотеке. Составишь нам компанию?
Я последовал за Бутби в маленькую, уставленную стеллажами с книгами комнату. Огонь в небольшом камине, облицованном скромным плитняком, придавал библиотеке особый уют. И такая атмосфера, конечно же, успокаивала нервы.
Эмми уже начала вставать, но Бутби махнул рукой, предлагая остаться на месте.
— Что случилось, Эмми?
Мы оба сели.
— Я собралась просмотреть стенографические записи Ины, чтобы найти касающиеся дела Доака… вы просили меня их расшифровать. — И после кивка Бутби продолжила: — Нашла и уже начала расшифровку, когда ко мне пожаловал следователь федерального Управления по борьбе с наркотиками. Женщина. Она спросила, располагаю ли я информацией о связях Ины с Гарольдом Доаком — тем самым человеком. Доак дал показания, что Ина покупала у него наркотики.
— Минуточку, — вмешался я. — Ина — стенографистка суда, которая записывала переговоры об условиях сделки со следствием своего поставщика?
— И федералы хотели, чтобы условия сделки остались в секрете, — кивнул Бутби, — чтобы ни поставщики, ни покупатели Доака ни о чем не узнали. Господи, Ина не могла не понимать, что агенты УПБН очень скоро постучат ей в дверь. Может, этим и объясняется самоубийство?
— Нет, я думаю, вы ошибаетесь. — Эмми покачала головой. — Я вновь прочитала ее дневник. Записи очень разные: счастливые, грустные, злые — на любой вкус. То, что полиция называет «предсмертной запиской», на самом деле запись в ее машинке для стенографирования. Почему там, а не в дневнике? Я провела два последних дня, просматривая записи всех процессов, которые она стенографировала за последний год. Личная запись только одна: которую нашла полиция.
— Что ж, это необычно… как и самоубийство, — указал Бутби. — Она могла совсем потерять голову.
— Я принесла полицейское донесение. — Она сунула руку в большую сумку, достала документ. — Вот текст ее записки: «Я больше не могу смотреть в глаза моим близким. Они верили в меня, а я их предала». Ина так написать не могла. Только меня она считала своей близкой родственницей, за последний год в ее дневнике упомянута только я. Она могла подвести только меня, и никого во множественном числе. О близких у нее только одна запись — в машинке для стенографирования… и она никогда бы ее там не сделала.
— А как насчет братьев? — спросил я.
— Она не испытывала к ним родственных чувств. Им просто повезло: закон объявляет их ее наследниками.
Бутби нахмурился, сдвинув брови.
— Так ты думаешь, кто-то написал эту предсмертную записку?
Я наклонился к сидевшей на диване Эмми.
— Может, ее написали после смерти Ины, чтобы обставить все как самоубийство?
Брови поднялись, опустились — судья думал.
— Написал тот, кто знал, как пользоваться машинкой для стенографирования, — добавил я, — и решил, что проще оставить такую запись, чем пытаться подделать почерк Ины.
Бутби ухватился за эту ниточку.
— Допустим, Ина продавала товар, который получала от Доака, и рассказала кому-то из покупателей о намечаемой сделке со следствием. Покупатель не хотел, чтобы Ина поступила с ним — или с ней — так же, как Доак собирался поступить с Иной, и убил ее, чтобы она не сдала его полиции.
Эта версия подхлестнула мою подозрительность.
— Эмми, какие еще подробности смерти Ины предполагают убийство?
— Прочитай полицейское донесение. — Она протянула мне бумаги. — Они нашли ее в подвале многоквартирного дома, в котором она жила. Она висела на струне, второй конец которой крепился к крюку в потолочной балке. Рядом валялась табуретка, аэрозольный баллончик с эфиром для запуска холодного двигателя и тряпка. Следователи пришли к выводу, что она повесилась, а эфир использовала в качестве анестетика, чтобы не чувствовать боли, после того как оттолкнула табуретку и начала задыхаться. — Эмми отвернулась. — Как это было ужасно. Бедная Ина.