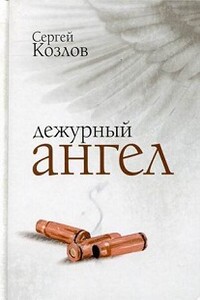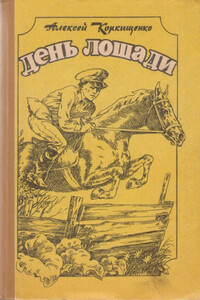—Правильно говорите, муж,— согласилась Мехриниса.
—И я такого же мнения,— сказала Сабирова и вдруг спросила совсем о другом: — В последние дни вы писали сыну?
—Отправили два письма,— ответила Махкам-ака.
—Об исчезновении девушки, надеюсь, не писали?
—Нет, нет! Зачем расстраивать Батыра?
—Правильно, Махкам-ака. Чем спокойнее наши фронтовики за нас, тем лучше они выполнят свой долг. Только боюсь я, как бы не написал о Салтанат кто-нибудь из его товарищей или родственников.
Махкам-ака переглянулся с Мехринисой.
—Может быть, нужно что-то предпринять? — спросила Мехриниса.
—Обдумывала я это. У Салтанат ведь есть брат, он тоже может узнать. Хорошо бы и ему пока не сообщать. Кстати, ваш сын, как и раньше, продолжает писать Салтанат. Это мне точно известно.— Сабирова отхлебнула остывшего чаю и, заметив, что Махкам-ака намерен заговорить, опередила его:
—К сожалению, его письма я не могу вам отдать. Они могут помочь нам в розыске. Вдруг что-нибудь в них объяснит исчезновение девушки... Это очень хорошие письма, скажу вам. Такие и Тахир не писал своей Зухре[42].
— Значит, правда, доченька, что он любит ее? — Мехриниса испытующе смотрела на Сабирову.
—Не сомневаюсь. Это настоящая любовь. Чистая, нежная. Поэтому-то мне и страшно, как бы Батырджан не узнал о случившемся.— Сабирова тяжело вздохнула.— Говорила с подругами. Салтанат и с товарищами вашего сына. Они утверждают: Салтанат всерьез собиралась ехать с Батыром на фронт.
—О аллах, вот как! — удивленно воскликнул Махкам- ака, а Мехриниса даже рот открыла от изумления.
—Девушка... что же она может там? — придя в себя, пробормотала Мехриниса.
—Такое теперь время. И я вот тоже, если потребуется, завтра же поеду,— твердо сказала Сабирова.
—Допустим, если так, если уехала, как же она не подумала о матери? — волнуясь, заговорила Мехриниса.— Ведь не маленькая, понимает. Почему не оставила хоть записку, не сказала кому-нибудь из близких или не сообщила после?
Сабирова развела руками: пока и она ничего не знала.
—Извините, что отняла у вас много времени. Если будет какая-нибудь новость, сообщу.
—Лишь бы хорошие вести были, миленькая,— сказала Мехриниса.
Супруги встали. Лейтенант Сабирова проводила их до дверей.
По улице Мехриниса и Махкам-ака шли молча. Исчезновение Салтанат, известие о гибели ее отца, разговор о любви Батыра и девушки заслонили даже неприятное воспоминание о пощечине. Но постепенно мысли кузнеца вернулись к сцене в милиции. Махкам-ака и сам не мог понять, как это произошло. Ему было больно. Впервые в жизни он так оскорбил жену, да еще в присутствии постороннего человека. В то же время Махкам-ака никак не мог забыть о том, что, не зная ничего толком, жена пыталась очернить хорошую девушку и выдала ее тайну Икбал-сатанг.
Мехриниса не обижалась на мужа, сознавая свою вину; боль от пощечины давно прошла, и ее беспокоило лишь то, Что муж был хмур и неразговорчив. Заговорить же первой ей не позволяло самолюбие.
Завернув за угол, супруги остановились: по обочинам дороги стояли плотные вереницы людей. Милиционер, подняв свою полосатую палочку, остановил движение транспорта, освобождая путь идущим друг за другом автобусам и четырехколесным арбам, переполненным эвакуированными детьми.
Взволнованная Мехриниса обернулась к мужу и встретилась с ним глазами. Это длилось одно мгновение, но Мехриниса поняла, что творится с Махкамом,— ему и так было горько, а теперь, потрясенный внезапной встречей с чужой бедой, он особенно отчетливо ощутил, как мелок и ничтожен его поступок. Глазами Махкам-ака просил прощения у жены. Мехриниса ничего не успела сказать: громкий плач ребенка на арбе привлек ее внимание. Молчавшие до этого люди на обочине вдруг разом заговорили:
—Бедняжки! У них на губах ведь еще материнское молоко...
—Чем же виноваты эти малыши...
—Есть и раненые, ай-ай-ай...
Какая-то женщина заплакала, не пытаясь скрыть свои слезы от окружающих.
—Ух, чтоб ослепнуть проклятым фашистам! Ведь они же в них стреляли, окаянные, стреляли! — У старушки, выкрикнувшей эти слова, даже голос сорвался.
—Куда их везут?
—Прибыло, говорят, десять тысяч. Правда это? — спросил седой мужчина свою соседку.