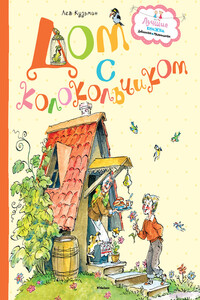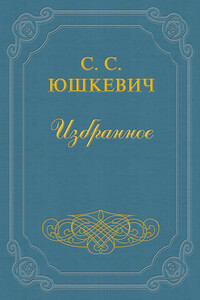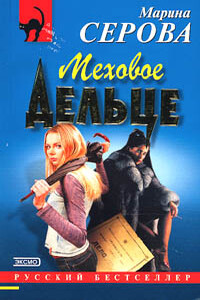Лев Кузьмин
ЕФРЕЙТОР ПОЛУХИН
На ефрейтора Полухина свалилось самое настоящее несчастье, да только об этом на пограничной заставе не ведает ни одна живая душа.
Внешне Полухин не изменился ни в чём. Аккуратный, всегда подтянутый, в ловко сидящей на белобрысой голове фуражке, удивительно курносый, ясноглазый, маленький ростом, но крепкий, как гриб-боровик, он и теперь в обращении с товарищами ласково-улыбчив, и на приказания командиров откликается с прежней готовностью. С той расторопной и весёлой готовностью, от которой даже сам начальник заставы, суховатый характером лейтенант Крутов сразу приходит в шутливое настроение, говорит неуставные слова:
— Молодец, Полухин, молодец! Хотя пока что пограничный стаж твой совсем невелик.
Но это — днем.
А вот как только на заставу, на её белёные постройки, на её тёмные тополя упадёт по-южному внезапная ночь, то беспокойное, почти бедственное состояние наваливается на Полухина снова. И это такое состояние, что о нём с товарищами говорить нельзя ни под каким видом: это состояние называется стыдным словом — страх.
Пришёл тот страх к ефрейтору по такой же вот ночной поре недавно. Во время объезда-досмотра пограничной полосы. И досмотр тот был тогда обычным, для Полухина уже известным, и начался он совершенно обыкновенно.
Верховая кобылка Ласточка шагала по мягкой, едва сереющей в сумерках дороге уверенно, бойко, как всегда. Знакомо наливались над головой Полухина крупные звёзды. Знакомо посвистывал ночной ветер слева в барханах, в песках; а справа он шуршал в высоких, в черно-метельчатых зарослях камышей; и там тоже уже знакомо нет-нет да и всхрюкивал рассерженный конским запахом кабан, который тоже поспешал по своему делу — вёл потаённой тропой стадо к булькающей невдалеке речке.
В общем, всё шло вокруг давно заведённым порядком, всё шло как надо, и только сам Полухин был настроен не очень-то. Он — сердился. Сбивал его с ровного настроения рядовой Матушкин. Земляк.
Матушкин до этого ходил на службу всегда с другой группой, а теперь вот оказался у Полухина и, радуясь, что они теперь не только в казарме вместе, а и в наряде вместе, то и дело нарушал субординацию, нарушал и дистанцию.
Не успели отъехать от ворот заставы, Матушкин подхлестнул своего серого, огромного, как башня, мерина Мандата, подскакал вплотную к Ласточке и, больно толкая Полухина в ногу своим стременем, безо всякого-якова, безо всякого уважения к званию и к старшинству Полухина пустился в пустопорожнюю болтовню:
— Вась, а Вась! Вот здорово, что мы теперь сами-двое. Вась, а Вась! Мы теперь и после демобилизации будем встречаться. Ведь наши деревни рядом — всего пятнадцать вёрст… Смешно! Раньше не виделись никогда, а и надо-то: сел на мотоцикл, поддал газу, вжик — и тут! У земели в гостях!
Матушкин болтал, пытался глянуть Полухину в лицо; лошади теснили друг дружку, звучно сшибалось положенное поперёк сёдел оружие, и выходило всё не так, как надо бы по уставу.
Деликатный Полухин пробовал об этом намекать. Кивком головы он указывал на третьего всадника, едва приметного далеко позади при звёздных отблесках ночного неба.
— Вон Толмачёв соблюдает дистанцию правильно, а ты — неправильно.
— Ерунда! Тут всегда всё спокойно! — отмахивался Матушкин. — Лейтенанта Крутова, что ли, боишься?
— Не Крутова… А ежели что, бойцы должны быть рассредоточены. — И, накаляясь ещё больше, Полухин добавлял: — Это тебе не гулянки, это тебе не деревня.
— Подумаешь! — сердился тогда и Матушкин и осаживал Мандата, «рассредоточивался».
Но, спустя небольшое время, вновь посылал мерина рысцой вперёд, снова заводил:
— Вась, а Вась…
Отделался Полухин от Матушкина, лишь повернув с дороги на узкую, не шире звериной, тропу в непролазных, как лес, камышах. Но и всё равно, слушая, как на отдалении теперь от Ласточки чавкает по болотистой почве своими копытами Мандат, Полухин досадовать не переставал. «Ох, уж этот мне земеля-Емеля… — думал он про Матушкина. — Ну, прямо балалайка! Да ведь и сам я хорош. Лычки ефрейторские нацепил, а осадить как следует трепача не могу. Не тот характер… Вот у лейтенанта Крутова — тот; у сержанта Дерябина, что рядом со мной в казарме занимает койку, — тот; и даже у моего сейчас подчинённого Толмачёва — тот! А у меня натура — никудышная, безо всякой строгости. Надо бы характер свой мало-мальски поукрепить, надо над самим собой поработать…»