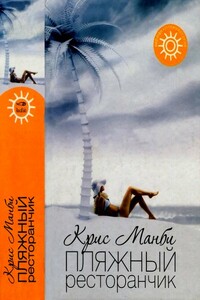Почему же я мирюсь с этим? Потому что Крайст-Черч, известный его обитателям как «дом» по его латинскому наименованию Aedes Christi (то есть «дом Христа»), славится замкнутостью своих группировок, а членство во всех других группировках теперь закрытое. Потому что Эдвард учился в Итоне и почти относится к сливкам общества, а Руфус учился в Вестминстере и, несмотря на аристократический вид, хорошо осведомлен о модных вещах. Он разбирается в рэп-музыке. Он умеет танцевать. У него настоящая (и очень красивая) подружка с таким витиеватым именем, о существовании которого я и не подозревал, пока не поступил в Оксфорд. Аллегра. Потому что, черт возьми, они — мои друзья, и какими бы неприятными ни были такие моменты, бывают и другие, которые их перевешивают.
Такие, как сейчас, например. Мы в квартире Эдварда, которая выходит окнами на Пек-Куод, и, поскольку он стипендиат, это действительно хорошая квартира, с высокими потолками, дубовой обшивкой стен и нишами окон, в которых можно лениво развалиться и наблюдать за перемещениями внизу, во дворе.
Руфус открыл новое бранное слово — «ходмен». Им, как он считает, полагается называть всякого, не имеющего счастья принадлежать к «дому». Мы проверяем это по «Краткому оксфордскому этимологическому словарю» Эдварда. Оказывается, все не так просто. Чтобы называть кого-то «ходменом», нужно быть не просто членом Крайст-Черча, но еще и королевским стипендиатом из Вестминстера. Руфус, который подходит под это определение, удовлетворен. Эдвард не подходит, но ему на это наплевать, поскольку он учился в Итоне, что еще выше.
Что касается меня, то я и есть «ходмен».
После обязательных пролистывания «Спекки» и «Сан», а также стакана кларета, заказанного Эдвардом в винном погребе Крайст-Черча, Руфус предлагает посетить винный бар «У Джорджа», чтобы напиться уже по-настоящему.
Заказываем, как обычно, «Александер Бренди» — ликер, какао, бренди и свежие сливки. То самое, что Энтони Бланш пьет с Чарлзом Райдером в «Возвращении в Брайтсхед». Значит, и мы должны это пить. Неизбежное звуковое сопровождение Сэйд. Подстрекаемые Мэлли, барменом с усами как у моржа, которого мы считаем своим близким другом, хотя он всего лишь бармен, мы увеличиваем свой долг до огромных размеров. И очень сильно напиваемся.
Прыгай, зараза, прыгай!
Прыгай на одеяло, которое мы держим,
И все будет хорошо.
Он прыгнул,
Грохнулся оземь и сломал себе шею.
Не-е была а-а-адеяла.
— Подожди, — говорит Брюер.
— Смешно? Мы чуть не обосрались, — вывожу я голосом, окрепшим от трех пинт лучшего крайстчерчского и взмывающим к каменным сводам Кладовой. Я знаю слова лучше всех, поэтому остальные отстают от меня на полтакта. Имеется в виду, все, кроме Тома Брюера.
— Мы не смеялись так с тех пор, как бабушка скончалась…
— Это кембриджская песня, — презрительно говорит Брюер.
— …и в бельевой каток попала сиська тети Мэйбл, — продолжаю я, стараясь не встречаться взглядом с Брюером и не обращать внимания на то тревожное обстоятельство, что петь продолжаю я один.
Мы жалкие грешники,
Гря-а-а-а-зные негодяи.
И в паузе перед последней строчкой я бросаю взгляд на остальных членов «Грома» в надежде увидеть улыбку или проблеск единения. Но все они виновато уткнулись глазами в свои стаканы.
— За-а-адницы, — заканчиваю я с большим чувством.
Задницы и есть. В подавляющем большинстве. И что только я с ними делаю. Не могу понять.
На самом деле могу. Я делаю это, потому что хочу быть с ними. Входить вместе с ними в «Гром» — бессмысленное, глупое, пьянствующее сообщество, которое собирается по понедельникам после обеда, чтобы принять в Кладовой положенные по уставу пять пинт горького, затем съесть полагающийся «смертельный» кебаб и выпить полагающиеся пять текила-сламмеров в баре «У Джорджа». И я хочу принадлежать в Крайст-Черче к такому кругу людей, которые не смеются надо мной за глаза, как Руфус и Эдвард.
Они этого и не делают. Они смеются мне прямо в лицо.
— Так, — холодно говорит Брюер, — следующая выпивка за твой счет.
— Но первый заход уже был моим, — возражаю я.
— Штрафной круг, — говорит Брюер.