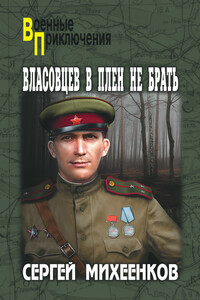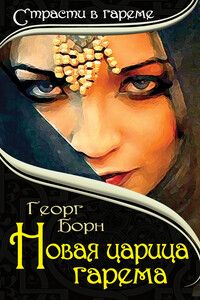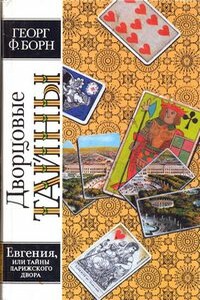— Вы удовлетворены, господин Штеффен, ответом вашего консульства?
— Вполне.
— И будете отвечать на вопросы?
— С полной откровенностью.
— С кем вы ездили в такси?
— С Людвигом Арнольдом.
— Где вы нашли такси? Как фамилия шофера? Когда вы познакомились с Арнольдом?
Я отвечаю на все вопросы, называю имена и даты. Мною руководят два мотива: злоба и расчет. Они бросили меня на мостовую, как корку съеденного банана. Эти прохвосты назвали меня аморальным субъектом.
Они думают, что я буду молчать и возьму всю ответственность на себя. Они увидят, на что я способен, когда меня доведут до крайности.
Кроме злобы, мною руководит и чувство самосохранения: обо мне должен знать весь мир, тогда они не решатся меня отправить к праотцам.
Тебе, Штеффен, угрожает смерть от слабости сердечной мышцы.
Я предлагаю следователю рассказать все в последовательном порядке. Его вопросы только затрудняют связное изложение.
Чиновник в грубой форме предлагает мне не читать ему лекций и отвечать на заданный вопрос.
Я понимаю. Швейцарское правительство не заинтересовано в углублении вопроса, и моя откровенность его мало радует. Я вижу, что из протокола вычеркивается несколько моих заявлений.
Смотри, Штеффен, как бы тебя не выслали в Германию.
Я чувствую, что бледнею. Потом вспоминаю: ведь консульство сообщило, что я лишен германского подданства. С этой стороны я могу быть спокоен.
Главное, чтобы они меня не отправили на тот свет. Может быть, из Берлина уже выехал какой-нибудь Пауль.
Бедный Штеффен, ты попал в грязную историю.
Допрос продолжается. Следователь пытается сбить меня с толку, но вскоре убеждается, что со мной это довольно трудно проделать.
Через час я опять у себя в камере. Наступает вечер. От нервного напряжения не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок на узкой жесткой койке.
Меня мучит мысль: в чем заключается моя ошибка? Даже если бы я приехал в Базель по липовому паспорту, это тоже мало бы что изменило. Нет, здесь должна быть какая-то более серьезная ошибка. Ведь есть даже теория роковых ошибок, их совершали библейские цари, Александр Великий, Наполеон.
Я вспоминаю все свои действия в течение последней недели и не нахожу, в чем я виноват: все было благоразумно, осторожно, тонко. Единственное, в ком я ошибся, — это в Арнольде, а я мог это предвидеть, я должен был считаться с этой возможностью. Да, моя грубая ошибка заключалась в том, что я должен был остаться в Германии.
Но, хорошо, что бы я там делал? Письмо Арнольда все равно было бы опубликовано, Штеффен объявлен провокатором и потерял бы для них всякую ценность. Они, конечно, поспешили бы от него избавиться. Нет, ошибки сделано не было. Я хотел бы прочесть, что пишут обо мне газеты.
Ты, Штеффен, неожиданно стал популярен, твое имя склоняется в кафе, трамваях и поездах. Это забавно, но ведь ты, Штеффен, никогда не гонялся за популярностью. Ты хотел мирно и тихо прожить свою жизнь.
Я не могу равнодушно вспомнить об Арнольде, этот негодяй мне испортил все.
Время проходит невыносимо медленно. Единственное развлечение — это допросы. Я пробую острить, но, увы, швейцарцы еще хуже моих соотечественников воспринимают юмор.
У меня возник недурной план — написать нечто вроде мемуаров. Я, конечно, не могу конкурировать с фон Бюловым, Штреземаном к другими корифеями мемуарного искусства, но я все же считаю своим священным долгом зафиксировать некоторые этапы своей скромной жизни. Это явится до известной степени страховым полисом.
Прежде ты, Штеффен, любил тень, теперь ты нуждаешься в свете, ярком свете.
Вот уже несколько месяцев, как я пишу свои воспоминания. Через неделю меня выпустят из тюрьмы и вышлют из пределов Швейцарской республики. Она слишком добродетельна и невинна для того, чтобы Карлу Штеффену было разрешено осквернять своим грязным дыханием альпийский воздух.
У меня в банке уцелело десять тысяч франков, я еду в Бразилию. Там Карл Штеффен начнет новую жизнь, у него есть ваш адрес, мадам Гуерера.
Вы выше моральных предрассудков. Вот только, боюсь, что на моей внешности плохо отразилось пребывание в камере. Да, это серьезная проблема, но не будем предрешать событий.