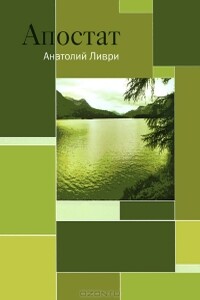Ecce homo - страница 6
Вечерами он любил становиться перед зеркалом, тихо улыбаясь, с сожалением и серьёзно смотрел на своё взъерошенное отражение, а когда снова находила дрянь, то Енох начинал рыдать, ощущая всё–таки своим нутром, что мог бы выразить переполняющее его напряжение иначе, чем слезами, но как именно? — он не знал. И несмотря на окружающую серость, которая со временем залила его всего; несмотря на забитость вкупе со стыдливой цензурой, коей он подвергал каждое собственное слово, какой–то голос нашёптывал Еноху ночами, что как бы он ни старался — ему не скрыться от кары, а потому Енох, даже в самые разбухшие от оптимизма мгновения, не мог вообразить себя сорокалетним человеком.
Затем пришли немцы, сменили уже тёмно–жёлтые флаги на чёрно–бело–красные, пощеголяли чистыми мундирами и ослепительными, с первого взгляда полюбившимися Еноху улыбками, загнали евреев в теплушки и отправили в лагерь. Енох не знал, давали ли им пищу, ибо, увидя плотную, натужно дышавшую людскую массу, в которую его втиснули, он, едва войдя в вагон, потерял сознание и пролежал так, в полузабытьи, до конца пути.
Днём в лагере надо было дробить камни. Ночью же Коган клекотал мохнатыми ноздрями на соседних нарах, а затем перебрался в барак для лакеев, прислуживающих в немецкой казарме.
Весной 1944 года Енох заболел туберкулёзом, но скрывал это. Слабея с каждым днём, он упал однажды на терновый куст и изрезал всю голову. Патруль, подобравший Еноха, перетащил его в лазарет, а немецкий врач, пришедший поутру, впервые за два с половиной года позволил помыться в бане, о существовании коей Енох доселе не подозревал.
*****
Воздух был резким. Енох, тихо прихрамывая, подошёл, так же бесшумно занял место в очереди покорёженных, одряхлевших, ненавистно–любимых собратьев и замер в предвкушении судороги сладострастного наслаждения, когда столь желанная тёплая струя змеёй обовьёт его тело. Коган очутился позади и тут же с придыханием и присвистом начал рассказывать о том, как он моется здесь каждую пятницу. «Лжёт», подумал Енох, «Но что, если они снова начнут давить на меня?» Запускали по дюжине. Чёрный банный дым уходил в быстро темнеющее небо под карканье Когана.
Неожиданно немка в изящной униформе показалась из–за грязной толпы, шепнула что–то на ухо приземистому офицеру и звонко рассмеялась. Енох неотрывно, внимательно смотрел на неё и, молниеносно вспомнив всю свою жизнь, понял: это — любовь. Её лицо было весело, хитринка в глазах, коралловые зубы, губы не толще и не тоньше, чем у наложницы в чувственном сне, а из–под изящной пилотки выбивались нити золотых волос. Смеясь, она устало скользнула взглядом по мрачной веренице людей… Енох — рыцарь. Он жизнь отдаст за неё, будет биться, как барс, и тогда она… Голубые глаза остановились на нём. «Sardelle», — произнесла она. Енох не понял и, всё ещё пожирая её взглядом страстного обожания, двинулся в призывно распахнувшиеся двери.
Нетерпеливый Коган попытался проскользнуть вперёд, и немка, заметив нарушающее порядок движение, не говоря ни слова, схватила Когана за плечо. Проныра получил пинок в зад от подоспевшего солдата, а она подошла к жёлтой колонке с чёрным краном и с брезгливой гримасой, делавшей её лицо во сто крат милее, принялась мыть руки.
Забыв о бане, Енох продвигался как заведённый. Вошёл. А внутри — четыре десятка голых обоих полов едва удерживают равновесие, крепко схватившись за свою промежность. Как плотва. Для него не было ни места, ни воздуха. Двери захлопнулись наглухо с металлическим уханьем вбиваемого в дерево гвоздя. Енох упёрся слабеющими вытянутыми руками в уже рушившуюся стену тел. «Почему?!», — взвыл он, а затем уже тише, радостнее и безотчётнее, как из неги навеянного наркотиком сновидения: «Наконец!».